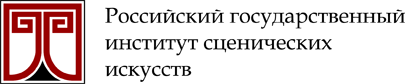Маркарьян Н.А.
Маркарьян Надежда Александровна
Режиссура и дирижирование:
проблемы взаимодействия в оперном спектакле
XX - начала XXI веков
Специальность 17.00.01 - Театральное искусство
Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора искусствоведения
Работа выполнена на кафедре зарубежного театра
Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:
И.В. Ступников - доктор искусствоведения, профессор
Л.Г. Данько - доктор искусствоведения, профессор
Ю.М. Шор - доктор, философских наук, профессор
ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ФГНИУК Российский институт истории искусств
Защита состоится 14 сентября 2006 г. в 15.00
на заседании Диссертационного совета Д 210. 017.10
в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства
по адресу: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 35, ауд. 418.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии (ул. Моховая, д. 34)
Ученый секретарь диссертационного совета
доктор искусствоведения С.И. Мельникова
В театре режиссерской эпохи опера занимает особое место. Это связано с тем, что в самой ее структуре есть существенное отличие от других видов театра - во главе спектакля стоят здесь два лидера: режиссер и дирижер. Согласованность их позиций оказывает определяющее влияние на художественные параметры постановки.
Вопросы адекватности друг другу режиссерского и дирижерского решений спектакля стали интересовать оперный театр и, как следствие, - науку о театре, сравнительно недавно. Проблема, обозначенная Д. Стрелером как "два не сообщающихся мира (то есть мир режиссера и мир дирижера - Н.М.)"1, значительно моложе, чем сам режиссерский театр и чем концептуальное дирижирование (начало которого совпадает по времени с началом режиссерской эпохи). Ибо долгий этап развития двух самостоятельных и самодостаточных исполнительских систем - театральной и музыкальной - привел на прошлом рубеже веков и в первой половине ХХ века к их "механическому" совмещению в спектакле: "механическому" более или менее. В это время музыкальная "часть" вообще уходит из поля зрения нового театра, поскольку ансамблевое исполнительство давно сложило свои традиции и с ним "все ясно" - нужно лишь качественно исполнить партитуру. Центром внимания становится режиссура, которую необходимо "придумать", что и мыслилось как главная новация и основная сложность оперного спектакля. Содержательные связи между этими двумя мирами еще не осознаются как главный источник драматического напряжения в спектакле - эта идея захватит Европу и мир после Второй мировой войны и десятилетия неореализма.
И все-таки история театра первых десятилетий века располагает одним экстраординарным примером - это "Пиковая дама" П.И. Чайковского, поставленная в МАЛЕГОТе в 1935 году. Желание согласовать драматическое действие и музыку заставило режиссера В.Э. Мейерхольда и дирижера С.А. Самосуда не только совместно выверить каждый темп и каждую музыкальную интонацию, но и сделать новую - в плане композиции, и, как следствие, в плане тонального и симфонического развития - версию оперы, максимально приближенную к режиссерской партитуре2. Оставляя в стороне вопрос о правомочности "вторжения" в вокально-симфоническую ткань законченного произведения Чайковского, заметим: иных значимых примеров, где режиссура заботилась бы о музыкальном решении, а музыкальное решение реализовывало бы содержательность и обеспечивало глубину решения режиссерского, в первой половине первого режиссерского века нет. Разве что подступом к "Пиковой даме" следует считать другой, более ранний спектакль Мейерхольда - "Тристан и Изольда" Вагнера, поставленный им в 1909 году в Мариинском театре (дирижеры Э.Ф. Направник и Ф.М. Блуменфельд). Однако в нем очевиднее усилия режиссера, делающего шаги навстречу дирижеру, чем дирижера, стремящегося уловить режиссерскую идею (более того, музыкальная часть труппы, возглавляемая концертмейстером оркестра В.Г. Вальтером, всячески противилась режиссерским новациям Мейерхольда, изначально лишая спектакль гипотетически возможного единства3). Тем не менее, момент работы над "Тристаном" примечателен - его итогом стала не только первая оперная постановка Мейерхольда, но и его первая статья о музыкальном театре: "К постановке "Тристана и Изольды" на Мариинской сцене 30 октября 1909 года"4, явившаяся начальным теоретическим подступом к проблеме единства театрального и музыкального, режиссерского и дирижерского замыслов.
Однако, несмотря на то, что с момента мейерхольдовских опытов прошло более семи десятилетий, научного осмысления проблемы, нащупанной Мейерхольдом и обострившейся во второй половине ХХ века, до сегодняшнего дня не последовало. Наука и, за редкими исключениями, критика все так же, как и век назад, ориентированы на автономное рассмотрение результатов творческого участия режиссера и творческого участия дирижера в спектакле, хотя практика оперного театра режиссерского времени убедительно показывает: только синтез режиссуры и дирижирования ведет к полноценному художественному результату. Таким образом, невыясненные механизмы сотворчества режиссера и дирижера, ненайденные интегралы их мышления - структурные компоненты оперного синтеза - образуют пробел в науке о театре.
Особенности настоящей работы продиктованы специфической двухсоставностью оперной природы, которая просматривается на всех структурных уровнях: музыка - литературный текст, драматическое действие - музыкальное развитие, режиссура - дирижирование; даже артист здесь не просто актер, а актер-певец. Исследование развивается в двух направлениях, связанных с двумя главными составляющими современного оперного спектакля: в направлениях режиссуры и дирижирования. Оба рассмотрены с разных ракурсов - исторического, философского, эстетического, художественного, прикладного - как самостоятельно, в предшествующем их совмещению в пространстве оперного спектакля виде, так и с позиций взаимодействия. Таким образом, процесс интегрирования дирижерской интерпретации в общую смысловую систему оперного спектакля предстает не изолированно, не путем простого изъятия явления дирижирования из музыкального контекста и погружения в контекст театральный, а как результат многовековых мировоззренческих изменений, толкавших музыкальное и театральное исполнительство к общей искомой величине - постановочной концепции. Попытка вписать историю и практику сценического искусства, с одной стороны, и историю и практику дирижирования, с другой, в единый процесс развития театра - есть то, что отличает настоящую работу от предшествующих исследований как музыковедческого, так и театроведческого характера.
Проблема двойного лидерства - специфически оперная и постоянно обостряющаяся - обуславливает установление расшатывающих целое приоритетов: театральных или музыкальных, что и привело науку к необходимости уяснения места, которое дирижер и оркестр занимают в театральной системе режиссерской эпохи, а также принципов творческого взаимодействия режиссера и дирижера в оперном спектакле ХХ - начала ХХI веков. Это и стало центром диссертационного исследования. Одновременно с осмыслением глобальных принципов взаимодействия режиссуры и дирижирования, работа предлагает и критический взгляд на театральную практику последних десятилетий в опере. Обращение к критическому анализу - причем, анализ спектаклей выполнен таким образом, чтобы на первый план вышли моменты соответствия (или несоответствия) друг другу режиссерского и дирижерского решений - позволило проследить процессы, происходящие в современном оперном спектакле, разобраться в постановочных направлениях и тенденциях, обусловленных "процентным" соотношением режиссуры и дирижирования в разных группах спектаклей, а также сообщили концептуальным положениям работы смысловой и образный объем, характерный для реального театра.
Поскольку тема диссертации не локальна, а является интегральным центром таких крупных "территорий", как современная театральная интерпретация и современная музыкальная интерпретация (причем четких границ между способами концептуального мышления обеих не существует), вырвать явления собственно режиссерского искусства (драматический театр, кино) и собственно дирижерского искусства (симфонический концерт, камерный концерт) из общего музыкально-театрального контекста невозможно. Поэтому и режиссура драматического театра, и концертное симфоническое дирижирование фоном проходят сквозь все исследование. А поскольку ракурс его востребован самим театральным процессом, в работе, как и в живом театре, сосуществуют спектакли разных художественных достоинств, поставленные в разных странах мира. Только репрезентативность той или иной тенденции с точки зрения взаимодействия двух главных структурных элементов спектакля - режиссуры и дирижирования - определяла их выбор.
Настоящее исследование преследует несколько целей. Важнейшими являются: изучение дирижерской составляющей современного оперного спектакля в ее связи с режиссерским замыслом и постановочным решением, а также выяснение наиболее работающей модели взаимодействия режиссуры и дирижирования в оперном спектакле режиссерской эпохи. Одновременно в цели исследования входит осмысление основополагающих принципов, ведущих к конструированию единого музыкально-театрального образа оперного спектакля, и вытекающих из этих принципов задач современного оперного дирижера; поиск точек соприкосновения в режиссерском и дирижерском мышлении, в способах реализации ими театральной образности; выявление тенденций развития оперного театра в связи с колебаниями активности внутри пары "режиссер - дирижер".
Задачи исследования состоят в выявлении сущности продуктивных творческих взаимоотношений двух лидеров спектакля - режиссера и дирижера, в осмыслении позитивных и негативных - для общего художественного результата - тенденций, сложившихся за столетие режиссерского оперного театра, в попытке создания научно аргументированных основ теории дирижирования в оперном театре. Поскольку "специальные теоретические работы не смеют претендовать на научность, если в структуру анализируемой вещи не "впечатана" история ее возникновения и развития"5, то, наряду с теоретическими изысканиями, работа предлагает изыскания исторического и философского порядка, касающиеся как театра в целом, так и его составляющих - режиссуры и дирижерского искусства. Востребованный работой широкий постановочный контекст - воссозданный театральный процесс, позволил выполнить еще одну задачу настоящего исследования: установить научно обоснованные тенденции и закономерности развития современного музыкального театра.
Объектом исследования является оперный театр режиссерской эпохи (от рубежа XIX-XX - до начала XXI веков) в ракурсе заявленной диссертацией темы.
Предмет исследования - оперный спектакль и взаимодействие двух его лидеров: режиссера и дирижера.
Научная новизна исследования заключается в том, что оно впервые представляет оперное дирижирование как театроведческую проблему. "Сфокусированная" на ситуации двойного лидерства, работа впервые под историческим углом зрения прослеживает процесс интеграции музыкального решения в концептуальные режиссерские системы ХХ - начала ХХI веков. В научный обиход введены редкие немецкоязычные и англоязычные материалы по истории оперного дирижирования ХХ века. Способы дирижерского управления оркестром и сценой - как в конкретных спектаклях, так и категорийно, в научных классификациях, впервые представлены с точки зрения театральных задач.
Исследование, в котором основное внимание сосредоточено на проблеме адекватности музыкального решения - сценическому, представляется особенно актуальным в контексте современного состояния оперной практики, где налицо явное размежевание этих двух начал и явная "центробежность" стремлений режиссера и дирижера, приводящая к дисбалансу театральной структуры.
Материалом настоящего исследования стали:
-
театральный процесс последних двадцати пяти лет, в аналитической форме осмысленный диссертантом (более тридцати спектаклей и концертных исполнений, представленных, в связи с сюжетом научного
повествования, крупным планом или фоново). -
описания спектаклей разных исторических этапов, содержащиеся в периодике и научной литературе первых двух третей ХХ века; описания принципов работы режиссера в театре прошлого столетия и методов работы дирижера в спектаклях прошлых веков, также содержащиеся в специальной литературе.
-
музыкальный и литературный тексты оперных партитур, на основе которых поставлены анализируемые в работе спектакли.
-
многочисленные труды - монографии, сборники, статьи, журнальные и газетные рецензии, посвященные режиссуре, дирижерскому исполнительству и оперному искусству в целом; материалы по истории и теории режиссуры, дирижирования, музыкального театра.
-
материалы архивов: Мариинского театра, Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, Akademie der Kuenste zu Berlin; документы и материалы, хранящиеся в Российской Национальной библиотеке, Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке, библиотеке Бостонского университета (BU), США.
Методологически диссертационное исследование основывается на принципах историзма, выработанных отечественной театроведческой школой, а также на утвердившихся в отечественной театральной критике принципах анализа спектакля. Научно-методологической базой настоящей работы стали труды таких театроведов, как А.А. Гвоздев6, П.А. Марков7, С.В. Владимиров8, Б.И. Костелянец9, К.Л. Рудницкий10, А.Г. Образцова11, Л.И. Гительман12, И.Н. Соловьева13, Ю.М. Барбой14. В основу исторической части исследования легли классические музыковедческие труды Р. Роллана15, Г. Кречмара16, Т.Н. Ливановой17, Б. Горовича18 и В.Д. Конен19, А.А. Гозенпуда20, Л.Г. Данько21. Диссертационное исследование базируется также на статьях и монографиях практиков оперного театра: режиссеров (В.Э. Мейерхольда22, Л. Висконти23, Д. Стрелера24, Б.А. Покровского25, В. Фельзенштейна26, И. Херца27) и дирижеров (Г. Берлиоза28, Р. Вагнера29, Г. Малера30, Ф. Вайнгартнера31, Э. Лайнсдорфа32, Н.А. Малько33, Е.А. Мравинского34, Г.Н. Рождественского35). Научная мысль смежных областей - эстетики36, философии37, филологии38 - ориентировала автора на широкий гуманитарный контекст в исследовании главной проблемы: взаимоотношений режиссера и дирижера в современном оперном спектакле.
Литература вопроса. Первая попытка поставить проблему единства театрального и музыкального, режиссерского и дирижерского замыслов, обнародовать идею образного - а не индифферентного к существу спектакля - музыкального решения, содержится, как уже говорилось, в статье В. Э. Мейрхольда "К постановке "Тристана и Изольды" на Мариинской сцене 30 октября 1909 года"39. В ней также впервые высказана точка зрения на режиссуру и дирижирование как на взаимодействующие и взаимно дополняющие друг друга сценические языки40. Однако эта статья значительно опередила свое время, и разрабатывать мейерхольдовскую тему стала уже вторая половина ХХ века, хотя нельзя сказать, что разработки эти носят систематизированный и фундаментальный характер - имеется в виду та часть научной театроведческой и музыковедческой литературы, где авторы исследуют взаимосвязь музыкального исполнительства с содержанием спектакля. Здесь главными по-прежнему остаются две книги, написанные дирижерами в 1970-х годах и полностью посвященные оперному дирижированию. Это монография Б.Я. Тилеса "Дирижер в оперном театре"41. И исследование Е.А. Акулова "Оперная музыка и сценическое действие"42.
Труд Б.Я. Тилеса знаменателен тем, что изобилует практическими рекомендациями по технологии работы дирижера с поющим актером и репетирующим режиссером, а также по обнаружению театрально-психологических "линий" в конкретных оперных партитурах. Однако эта книга, при небольшом ее объеме, выходит далеко за рамки практического пособия. Главы "Сценическое действие в творческом процессе дирижера" и "Дирижер и режиссер" основаны, кроме авторских наработок, на собранном Тилесом и обобщенном им богатом литературном материале, в том числе никогда до него не переводившемся на русский язык. Это статьи Г. Малера, Б. Вальтера, Р. Штрауса, К. Шлегеля, Ш. Штомпора, А. Цендрея, Г. Фридриха. В их живом диалоге с классиками русской оперной мысли - П.И. Чайковским, К.С. Станиславским, А.М. Пазовским, Б.В. Асафьевым, В.М. Богдановым-Березовским, Б.А. Покровским вырисовываются "классический" образ оперного дирижера и тот круг его художественных задач, решение которых составляет основу культуры дирижерской профессии. Однако, вполне объяснимая в связи со временем написания книги, недифференцированность оперных постановок по поэтике и - соответственно - отсутствие уточнений дирижерских возможностей в спектаклях разных сценических языков, делает этот труд несколько общим, представляющим собой только первый этап подступа к проблеме.
Монография Е.А. Акулова "Оперная музыка и сценическое действие" предлагает фундаментальный взгляд на явление музыкальной драматургии, являясь, - если воспользоваться сравнением, - оперным аналогом трудов Б. Зингермана, С. Владимирова, Б. Костелянца, Э. Бентли, и рассматривает партитуру с точки зрения теории драмы. Поскольку Е.А. Акулов - практикующий дирижер с большим оперным стажем, то теоретические положения его работы спроецированы на практику дирижирования и направляют внимание дирижера на выявление театральности в музыке, на обнаружение тех "музыкальных средств и приемов композиции, с помощью которых автор музыки создает картину внешней и внутренней жизни действующих лиц, их взаимоотношений, их характеров, обстоятельств, в которых они действуют, - словом, всего того, что является материалом для сценического воплощения"43. Книга уникальна: при своей глубине она написана настолько доступно, что может быть адресована не только исследователям и дирижерам, но и драматическим режиссерам, ориентируя их в том, как прочитать, "добыть" заложенное в музыке драматургическое содержание. Труд Акулова "Оперная музыка и сценическое действие", как и труд Тилеса "Дирижер в оперном театре" можно отнести к исследованиям-фундаментам, с которых начинается постижение всей сложности соединения режиссерского и дирижерского начал в оперном спектакле. Таково же и отношение к этим трудам в настоящей работе.
С режиссерской стороны к проблеме взаимоотношений режиссуры и дирижирования подступались Б.А. Покровский в книгах "Об оперной режиссуре"44 и "Размышления об опере"45, а также Л. Ротбаум в монографии "Опера и ее сценическое воплощение"46. Борис Покровский, опираясь на содержание писем Джузеппе Верди и на собственный практический опыт, устанавливает обязательные качества театрального дирижера - они приняты автором этой работы как аксиомные: "Природа таланта оперного дирижера адекватна природе оперы. Это - свойство открытия за звуком факта, за музыкой действия"47. Причем, Покровский - из тех немногих режиссеров, кто ставит миссию дирижера в оперном спектакле на самое высокое место: "Сила и смысл о п е р н о г о дирижера в том, что он звуковой палитрой создает логику к о н к р е т н ы х ч у в с т в и д е й с т в и й, заключенных в партитуре, цементирует музыкально-действенным образом весь комплекс средств оперного театра, концентрирует целенаправленность художественного акта спектакля"48.
Другие режиссеры в большей мере склонны к режиссероцентристскому взгляду на проблему двойного лидерства - первым здесь следует назвать В. Фельзенштейна, представленного в диссертации не только известными, давно переведенными на русский язык статьями, но и рядом не переводившихся работ, а также неопубликованной перепиской с дирижерами "Komische Oper", которая хранится в архиве Фельзенштейна в Akademie der Kuenste zu Berlin.
Проблемы взаимодействия режиссуры и дирижирования занимают в ХХ веке не только "чисто" оперных режиссеров. В ряду тех, кто обращался к этой теме, стоят Л. Висконти49 и П. Брук50, но самые важные и актуальные мысли о месте дирижера в оперной постановке и способах его взаимодействия с режиссером содержатся в книге Джорджо Стрелера "Театр для людей"51. Представляя совместное творчество режиссера и дирижера в оперном спектакле как изначально диалектически-конфликтное, Стрелер "снимает" идеальные и никогда не работавшие дирижерские установки, предлагая не столько преодолевать эту конфликтность, сколько в ней самой искать зерна действенной идеи спектакля.
Еще из работ, так или иначе касающихся центральной темы настоящего исследования, необходимо назвать книгу немецкого оперного режиссера И. Херца "Театр - искусство прочувствованного мгновения" ("Theater - Kunst des erfuellten Augenblicks"52). И защищенную в 2005 году кандидатскую диссертацию В.А. Альтшулера "Функции оркестра и место дирижера в сценической интерпретации оперы"53 - исследование, предпринятое дирижером-практиком и содержащее - с дирижерской стороны - обоснование конечного главенства режиссуры в оперном театре ХХ века.
Обширный фактологический материал, содержащийся в статьях, заметках и интервью вышеперечисленных практиков дирижирования, оказал значительное влияние на общее направление исследования и на видение дирижерских проблем оперного театра.
Поскольку в диссертационной работе впервые в отечественном театроведении представлена фигура Малера-дирижера как одна из смыслообразующих фигур нового оперного театра - первого дирижера-концептуалиста режиссерской эпохи, особое место среди исторических источников занимают письма Г. Малера и заметки о нем его современников: музыкантов, историков, публицистов, писателей54.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства с участием ведущих специалистов кафедры русского театра и кафедры музыкального воспитания этого вуза. Отдельные положения диссертации были представлены автором в монографии "Повествовательный оперный театр в ХХ веке"55, сборнике "Портреты современных дирижеров"56, в многочисленных статьях57, в лекции "Драматический режиссер в современном оперном театре"58, а также в виде докладов на отечественных и зарубежных научных симпозиумах59. Положения настоящей диссертации легли в основу лекций по предметам: "История зарубежного оперного театра" и "Актуальные проблемы оперного театра", которые автор в течение последних десяти учебных годов читает студентам: историкам и критикам музыкального театра, актерам музыкального театра.
Практическая значимость работы заключается в том, что она помогает режиссерам и дирижерам найти путь к творческому взаимопониманию с "противоположной стороной", оснащает театральных критиков новыми методами комплексного анализа оперного спектакля, вводит в научный обиход обширный, в том числе впервые переведенный, фактический и аналитический материал, способный обогатить курсы лекций по истории и теории музыкального театра, по истории мировой художественной культуры.
Структура диссертационного исследования продиктована его логикой и состоит из введения, шести глав и заключения. В конце работы приводится список использованной литературы (более четырехсот названий).
Во Введении обосновывается выбор диссертационной темы, доказываются ее новизна и актуальность, определяются цели и задачи исследования, его методологические принципы. Большой раздел введения посвящен постановке проблемы двойного лидерства как феномена, принадлежащего исключительно музыкальному театру. Еще один крупный фрагмент введения содержит обзор литературы, с разной степенью приближения рассматривающей проблемы взаимодействия режиссера и дирижера в процессе работы над замыслом спектакля и над его воплощением.
Первая глава "Режиссура и дирижирование: пути развития и сложности объединения в оперном спектакле" посвящена предыстории взаимоотношений режиссера и дирижера, а также "болевым точкам" их совместного бытия. Она содержит исторический экскурс к истокам режиссуры, устанавливая время появления и место в общем театральном процессе конкретно оперной режиссуры. Сопоставив имена и даты, автор констатирует: с самого начала режиссерской эпохи опера оказывается включенной в единый процесс развития театра. Происходит это по нескольким причинам. С одной стороны, потому, что, вступая в эру своей самостоятельности, режиссура стремится обогатить театральный язык приемами музыкального письма. Причем сферой ее наиболее пристального внимания становится музыкальный ритм как воплощенный идеал, поэтическая ипостась и метафора некоего интегрального ритма, пронизывающего все сферы бытия - включая и разные виды пространственно-временных зрелищ60. Интерес вызывают также музыкальная структура - гомофонная или полифоническая - и музыкальная форма как способ построения композиционной целостности спектакля. Один из первых исследователей оперного творчества Мейерхольда И.И. Соллертинский пишет: "Мейерхольд понял конструктивную, организующую силу музыки; он заговорил о "полифоническом" строении эпизодов, где отдельные голоса то взаимно сопрягаются, то перебивают друг друга, то вступают по законам музыкальной имитации (...), заговорил о "световом контрапункте", о ритме мизансцен, ставящихся на основе своеобразного тактового деления"61. Идеи Мейерхольда - действующего режиссера, трибуна, публициста и педагога, оказались идеями целого поколения. Понятно, что "музыка неотступно влекла к себе режиссеров, для которых драматический театр станет основным уделом их творческой жизни"62.
С другой стороны, драматическая режиссура, обращаясь к опере, пыталась прояснить и место музыки в драматической постановке, при этом все более приходя к убеждению, что музыка лежит на пути к театральному синтезу как философскому способу познания мира. А идея синтетизма - это одна из самых ностальгических идей художников рубежа XIX - XX веков. "В основе сложного и многогранного процесса, объединяющего музыку и театр на рубеже XIX - XX веков, содержалось стремление осмыслить заново или переосмыслить место и роль музыки в современном драматическом спектакле, постигнуть значение действенного, драматического начала в музыкальной постановке, а также тенденции более глубокого и общего порядка, включая поиски новаторской природы художественного синтетизма современной сцены"63. Разумеется, витавшая "в воздухе" идея синтеза должна была рано или поздно "осесть" в той точке, где соединятся усилия режиссера и дирижера.
Аналогично - через историю - автор анализирует процесс появления музыкального руководителя оперного спектакля - дирижера - и прослеживает этапы становления дирижерской профессии в связи с усложнением музыкального материала опер и развитием сценического языка. В первой главе подчеркивается, что выполнение таких дирижерских задач, как определение состава оркестра, расшифровка баса-континуо, акустические и динамические корректировки, - то есть задач, выполнение которых зависело совсем не только от "организаторских", координирующих способностей музыкального лидера постановки, но и от его умения "думать", определило интеллектуально-интерпретаторскую суть будущего дирижирования. Хотя пока, в дорежиссерскую и "додирижерскую" эпоху, это был только "ген" интеллектуализма - функции музыкального руководителя оставались еще более или менее прикладными.
Основное место в первой главе отдано исследованию эволюции театральных идей в опере и анализу качественных изменений театрального мировоззрения - изменений, повлекших за собой в разные периоды истории усложнение оперно-театральной структуры, обогащавшейся, в том числе, и за счет оркестровых средств, что - в свою очередь - повлекло за собой усиление внутриструктурных связей, потребовавшее своих интерпретаторов.
Однако прежде, чем дирижер и режиссер станут строить свои отношения на основе постановочной идеи, потребуются еще два новшества. Первое - повернуть дирижера лицом к оркестру. На это нужны были смелость и демонстративность Р. Вагнера, ибо аристократический этикет не позволял музыканту стоять спиной к великосветскому зрителю. Несмотря на скандалы, спровоцированные вагнеровской дерзостью в 60-х -70-х годах XIX века во всей Европе, Вагнер сумел убедить мир, что дирижирует не залом, а оркестром64, и дирижер обрел право стоять так, как удобно ему и музыкантам. Хотя это новшество касалось, прежде всего, концертного дирижирования (события, происходившие в яме и невидимые зрителю, мало интересовали великосветскую публику), оно имело важное значение для самосознания дирижерской профессии.
И, наконец, в 1897 году, придя в Венскую Государственную оперу в качестве художественного руководителя, Г. Малер ставит дирижерский подиум на то место в оркестровой яме, где он находится сегодня - непосредственно перед оркестром, у барьера, отделяющего оркестровую яму от зрительного зала65. В течение же всего предшествующего периода развития театра подиум помещался между сценой и оркестром, а дирижер стоял лицом к певцам и спиной к оркестрантам, вынужденный бесконечно вертеться. Такое положение препятствовало, с одной стороны, реализации симфонического содержания партитуры, с другой, - складыванию мануального языка во всем его возможном богатстве.
Это последнее действие, утвердившее новый порядок дирижерского присутствия в опере, - особенно знаменательно. Этим действием Малер-дирижер зафиксировал важную веху в художественной истории - к этой вехе подошел и драматический театр. Имеется в виду симфонизация оперных партитур, достигшая к концу XIX века глобальных масштабов и по своей сути сравнимая с явлением "новой драмы". Следует назвать и еще несколько факторов, способствовавших переходу музыкального театра в новое качество, получившее впоследствии название режиссерского театра. Это прорыв дополнительных и новых смыслов, не вмещавшихся в нотный текст, но требовавших уяснения и увязывания в единый узел постановки. Отсвет новорожденной режиссуры, проглядывавшей сквозь "прозрачную перегородку" между оперой и драмой. Усложнение театральной структуры - появление образной сценографии, образной мизансцены, образного костюма. Таким образом, напряжение всех художественных средств, готовых входить в новые синтетические комбинации и рождать новые формы, настоятельная потребность в концептуальной интерпретации как возможности связать все эти разнородные движения, в равной мере изменили облик и драматического, и оперного театра.
Всем ходом размышлений первая глава приводит к выводу, что феномен дирижирования - и как явление, обеспечивающее одновременность игры различных инструментов, и как явление образно-концептуального порядка - мог возникнуть прежде всего в оперном театре, ставившем перед певцами и инструментальным ансамблем (оркестром) трудноразрешимые пространственные, акустические, координационные и сценические задачи. А вся культура концертного дирижирования (сначала придворного, потом общедоступного филармонического), "изымавшая" из оперной практики ее наработки, приемы, методологию и переносившая их в "чистое" пространство симфонической музыки, является вторичной по отношению к дирижированию оперному. Разумеется, та же последовательность характерна и для становления оркестра - сначала оперный, затем концертный.
Вторая глава "Концептуально-театральное мышление в дирижировании: качественные изменения во времени" содержит историко-теоретический материал и посвящена моменту "встречи" нового театра и нового - концептуального - дирижирования, а также становлению самосознания дирижерского искусства в ХХ веке.
Понятие "новая драма" спроецировано здесь на музыкальный театр, поэтому в качестве смыслообразующей возникает фигура композитора Р. Вагнера как представителя "новой драмы" в опере. Одновременно Вагнер предстает и в ипостаси интерпретатора: пионером оперного - театрального - дирижирования и автором первой теоретической работы по вопросам оперного дирижирования66.
Конец ХIХ и рубеж XIX - XX веков - время, когда усложнившаяся содержательность первоисточника, интеллектуальные притязания театра и "напрягшиеся" отношения внутри театральной структуры "породили" режиссуру, стало и временем рождения современного дирижирования. Та же усложнившаяся содержательность партитур - будь то Вагнер или Брукнер, Чайковский, - те же интеллектуальные притязания, то же усложнение структуры оркестра. Впрочем, на этом аналогии заканчиваются - дирижерская профессия, в отличие от режиссерской, не обрела авторского качества, дирижер не принял на себя авторство симфонией или оперой подобно тому, как это сделал режиссер, став полноправным автором спектакля. Тем не менее, и для дирижирования рубеж веков представляет собой важный рубеж, за которым открывается интеллектуальная интерпретация. Это время выдвигает своего лидера - Г. Малера. Но не того "неудачливого" композитора, симфонические премьеры которого одна за другой оглушительно проваливаются, а Малера - оперного дирижера: человека всемирной известности и непререкаемого авторитета. Явление Малера - дирижера-концептуалиста, театрального деятеля, автора режиссерских решений дирижируемых им премьер - подробно рассмотрено во второй главе. Фоном, на котором представлена деятельность Вагнера и Малера, является театральный процесс Европы XIX - рубежа XIX - XX веков.
Содержанием второй главы стала и эволюция дирижерской мысли - от времени Вагнера до сегодняшнего дня.
Разница между старым и новым взглядом на роль, принадлежащую человеку с дирижерской палочкой, обнаруживается в сочинительских методах тех же двух композиторов-дирижеров: Р. Вагнера, при всей прогрессивности театрального мышления оставшегося художником "додирижерской" (по аналогии с дорежиссерской, но по сути - именно дорежиссерской) эпохи и признававшего за дирижером лишь "почетное право полностью представлять композитора"67. И Г. Малера, который присоединил свой внятный дирижерский голос к голосу исполняемого автора и стал знамением нового дирижирования, художником, к дирижерской мысли и дирижерской практике которого восходит все здание современного концептуального исполнительства: прежде всего оперного.
Но Вагнер, прочно выковывая симфонические русла своих оперных партитур и подробно комментируя нотные тексты - на немецком языке, потому что не доверял девальвированным итальянским терминам, - ставил дирижера в жесткие рамки авторитарной композиторской воли и требовал ее непременного исполнения. "Мне (...) не известен ни один дирижер, от которого я мог бы ожидать правильной интерпретации темпов (...) моих опер. Во всяком случае, никто из высших офицеров генерального штаба армии наших отбивателей тактов на это не способен"68.
Малер же в процессе дирижерской работы над чужими оперными партитурами приходит к иной, "противоположной" мысли. Композитор не должен снабжать текст исполнительскими указаниями, чтобы не ограничивать дирижеров-потомков, - ведь они смогут насытить давно созданные партитуры токами другого времени, иного миропонимания. "С трудом устоишь перед соблазном не надписывать никаких темпов, не обозначать никаких динамических акцентов, а предоставить каждого самому себе, чтобы он вник в произведение поглубже, сам вычитал из него все, что сможет, и соответственно исполнил его"69. В отличие от Вагнера, считавшего центром будущего оперного театра лично себя70, Малер видел будущее музыкального, оперного процесса в умном, глубоком, вдумчивом дирижере-интерпретаторе, что выдает в Малере мыслителя и художника ХХ века.
Далее эволюция оперно-театральных идей прослежена от Малера - к первому поколению оперных дирижеров режиссерской эпохи; от них - к довоенному поколению дирижеров и далее через поколение 60-х - 70-х годов к нашим современникам.
Третья глава "Дирижирование как современное интерпретаторское явление" посвящена принципам реализации дирижерских трактовок на основе "подвижных" элементов партитуры, а также оппозиции двух методов: одного, основанного на "букве музыкального текста" и другого, создающего "интерпреторский перпендикуляр к музыкальному тексту".
Совершенно ясно, что лад, тональность, тактовый размер, ритм и высоту звуков в законченном музыкальном произведении изменить нельзя. Во-первых, они связаны друг с другом логически, и при нарушении одного из компонентов нарушается вся тонально-гармоническая цепь, музыка начинает фальшивить. Во-вторых, это сфера устоев музыкального произведения, его содержания: при помощи тонального плана, ритма и звуковысотности конструируется основная философская тема, идея сочинения. Здесь все просто: сыграй начальные такты Сороковой симфонии Моцарта в соль мажоре, а не в соль миноре, и получишь радостную, солнечную музыку - ничего общего с той, которую написал Моцарт. По аналогии с литературной пьесой - все равно, что переписать текст чеховских "Трех сестер" или "Вишневого сада" вместе с конфликтом и завязкой. Таким образом, следует признать упомянутые лад, тональность, тактовый размер, ритм и высоту звуков неподвижными элементами партитуры. "За счет" них реализовать свое видение произведения дирижер не может.
Однако лад, тональность, тактовый размер, ритм и точная высота нот не исчерпывают содержания музыкального произведения. Перед каждой частью - а нередко и внутри частей - автор ставит обозначение темпа. Внутри текста стоят динамические оттенки. В нотах встречаются также обозначенные графически волны нарастаний, лиги, акценты, стаккато, легато, оттяжки и ускорения, а также словесные указания характера игры. Это - уточняющие авторскую идею детали, и они же - подвижные элементы партитуры. Подвижные потому, что темп связан, с одной стороны, с физиологией музыканта - его сердцебиением, с другой, - со скоростями конкретной эпохи. Точного значения фортиссимо или пианиссимо тоже не существует, существуют лишь отношения внутри этих крайних величин. О несовершенстве "вилочек", знаков ускорения или замедления, словесных терминов и говорить не приходится. А артикуляционные указания - фразы, акценты, стаккато, легато - не просто "не нормированы", но и связаны с речевыми особенностями: как национальными, языковыми, так и временными, изменяющимися от поколения к поколению. (Яркий пример интонирования, связанного с речевыми особенностями, - исполнение симфоний Чайковского, Рахманинова некоторыми японскими - или даже немецкими - оркестрами и дирижерами. Эффект иностранного акцента получается за счет деформации артикуляционно-подвижных элементов партитуры. Точно также венская музыка - от классиков до "новой венской школы", с точки зрения австрийских музыкантов, звучит у российских оркестров и дирижеров со славянским акцентом71.)
Диссертант, таким образом, показывает, что в партитуре всегда остается "зазор" между авторским текстом и авторским замыслом. Умение "встроить" в "пустое пространство зазора" собственный дирижерский сюжет, тем самым вступив в сложно-содержательный диалог с композитором - в случае концертного исполнения, с композитором и режиссером - в опере, и есть интеллектуальное качество дирижирования. Но в оперном театре "зазор" заполняется не просто дирижерским "сюжетом", но дирижерским "сюжетом", соотнесенным с "сюжетом" театральным. Так что "детский" вопрос о том, кто в опере главнее - дирижер или режиссер, может быть снят только в гипотетически-идеальном спектакле, где оба они являются равноправными "хозяевами", потому что художественный мир постановки рождался из их одинакового видения мира и, как следствие, "одинакового" замысла. Но идеальные ситуации, когда "ни у дирижера, ни у режиссера не может быть полной самостоятельности как в вопросах музыкальных, так и в вопросах сценических, поскольку эти области в опере тесно переплетаются"72, в реальности бывают очень редко. И на деле, в целях целостности и единства постановки, в целях сохранения гармонии между сценографическим решением, которое не может быть скорректировано в процессе сценического воплощения, и звучащими образами; между звучащими образами и мизансценами, которые тоже не поддаются корректировке, поскольку реализуют содержание режиссерского спектакля, - оперный дирижер вынужден приносить себя в жертву режиссеру и художнику. "Дирижер (...) обязан принять общую идею, общий замысел, общую схему спектакля (...) потому что (...) визуализировать партитуру и сочинить действенный ряд при помощи системы мизансцен может только режиссер"73. Эту мысль, сформулированную дирижером и исследователем, находим также у режиссера. П. Брук пишет: "В музыкальном театре позиция режиссера более объективна, чем позиция дирижера, потому что последний ограничен рамками своей профессии"74.
Оставаясь единственным действующим в момент спектакля лидером, дирижер обязан объединять стилистики разных сценических языков - мизансцены, пластики, сценографии, музыки, в каждую конкретную минуту спектакля содействовать их синтезу: заданными им темпо-ритмом, динамическими оттенками, фразировкой, характером артикуляции и еще множеством других средств музыкальной выразительности, обеспечивающих эмоциональную жизнь спектакля.
Эта способность дирижера "мимикрировать" в образный мир спектакля, позитивная в случаях взаимопонимания с режиссером, усиливает драматическое напряжение в случаях, когда масштаб дирижерской индивидуальности оказывается несоизмеримо велик в сравнении с возможностями режиссера. Поскольку тогда дирижер вынужден либо, лишая дирижерскую трактовку ее высоты, оправдывать посредственное постановочное решение, либо вырываться вперед, заведомо разрушая целостность. "Один из экстремальных вариантов, возможных в этом случае, - игнорирование совместного замысла и создание дирижером концертного варианта исполнения"75.
Особое место в третьей главе занимает анализ преимуществ и приоритетов каждого из субтекстов76 оперного спектакля - режиссуры и дирижирования; анализ концептуальных и театральных возможностей собственно дирижирования; анализ тех качеств дирижерского искусства, которые позволяют интегрировать музыкальное решение - в решение режиссерское. На основании всех приведенных фактов и аналитических выкладок, использующих современный концертный и театральный материал, сделан вывод о реальном доминировании режиссера в создании действенного мира оперной постановки и о неизбежном подчинении ему дирижера в целях достижения театрального целого. Эта ситуация подробно рассмотрена на примере спектакля "Война и мир" - опера С. Прокофьева, режиссер А. Кончаловский, дирижер В. Гергиев, Мариинский театр, 2000 год.
Четвертая глава "Повествовательная оперная режиссура и дирижирование" посвящена оперному театру первой половины ХХ века и постановкам, выполненным в эстетике сценической прозы. К.С. Станиславский, В. Фельзенштейн, Б.А. Покровский, И. Херц являются центральными режиссерскими фигурами ее исторической части. В ней не только восстановлены фрагменты некоторых их оперных спектаклей, но и проанализированы эстетические принципы, на которых строились творческие взаимоотношения этих режиссеров с дирижерами. Особенно подробно автор останавливается на модели взаимоотношений, сложившейся в берлинской "Komische Oper" - театре В. Фельзенштейна.
В четвертой главе также исследуются режиссерские тенденции довоенного времени и намечается основная магистраль, к которой тяготеет подавляющее большинство постановок первой половины столетия, - повествовательная форма оперного спектакля. Близостью принципов повествовательной режиссуры принципам сквозного симфонического развития, уже к XIX веку окончательно вытеснившего номерное мышление и ставшего доминирующим в оперных партитурах европейских композиторов, объясняется относительная бесконфликтность взаимодействия режиссера и дирижера в оперных спектаклях первой половины ХХ века. Иными словами, повествовательная режиссура развивалась в одном с музыкой, "линейном" направлении, "накладывалась" на нее и, как следствие, не была вызовом дирижированию. Но и теряла на этой прямолинейности часть исконных свойств оперного театра, теряла в богатстве и глубине.
Действительно, есть веская причина, по которой прозаический, повествовательный тип режиссуры остается вечным соблазном для оперного театра. Эта причина всегда реально вставала на пути преодоления безликой оперной традиционности и способствовала столь долгой (в сравнении с драматическим театром) задержке оперы на жизнеподобной модели77. Кроется эта причина в природе музыкального образа, неотделимого от самого процесса развития во времени. Как замечает Ю.М. Лотман, "музыка (по своей основной тенденции, по структуре материала) тяготеет к тому, чтобы быть идеальной моделью развития, движения в чистом виде (в отличие от живописи, которая является воплощением "исходного состояния")"78. Это понимание музыки исключительно как модели развития - качество имманентное, но не отражающее всей полноты музыкального образа, - толкает оперный театр "в объятия" прозаических - тоже ориентированных на развитие - способов истолкования партитуры.
Однако процессуальность, как уже было сказано, не исчерпывает характеристик музыкального образа. Сложность музыки как художественного феномена заключается в ее изначальной двойственности. Наряду со способностью фактически имитировать душевный, психологический процесс, музыка - не обладая ситуативной конкретностью при конкретности чувственной - своими образами уводит в сферу эмоционального укрупнения, поэтического обобщения, в сферу очищенных от обыденности переживаний, где и в момент музыкального развития утверждается обобщенная эмоция. "Музыка - искусство обобщения чувств, настроений, эмоций. В этой способности к обобщению - главная сила воздействия музыкального искусства"79, - пишет Е.А. Акулов. "Музыка - самая поэтичная интерпретация жизни"80, - пишет Ж-К. Казадезюс.
Вопрос о том, за каким из двух свойств оперной музыки пойти театру, и есть вопрос выбора постановочной концепции спектакля. В идеале уже в этом пункте должны сходится позиции режиссера и дирижера. На практике же выбор режиссером повествования, как основы сценического языка, и психологии, как способа обнаружения сценической жизни, означает взваливание на дирижера всей ноши причинно-следственных отношений, означает обращение оркестра в еще одного психологического "персонажа" спектакля. И выход в иное измерение - к поэтическим вершинам, к эмоциональным укрупнениям и обобщениям, - как и возможность построения смыслового перпендикуляра, делаются для музыкального решения такого спектакля проблематичными. А это принижает и постановку в целом, и музыкальную трактовку партитуры в частности.
Отдельное место занимает в четвертой главе разговор об оперных режиссерах - бывших певцах: именно они определили облик второго режиссерского поколения в опере (это поколение пришло вслед за новаторами, ставшими впоследствии классиками режиссуры, и проработало - в традиционалистской манере - до Второй мировой войны). Если свежие театральные идеи не были сильным местом этого поколения (исключение составили немногие, в числе них - Э.И. Каплан), то доскональное знание музыки тех опер, в которых они пели годами, со своей стороны способствовало установлению бесконфликтного взаимопонимания с дирижерами. При этом дирижеры оказывались большими профессионалами в дирижировании, чем певцы - в режиссуре. И часть оперных спектаклей 30-х - 50-х годов имела явный крен в сторону музыки и "чистых" музыкально-исполнительских ценностей. Таким образом, второе поколение оперных режиссеров способствовало установлению дирижероцентристкой модели оперного театра. Далее в четвертой главе показана высшая точка такого дирижероцентристского театра - театр "Ла Скала" в период художественного руководства Артуро Тосканини.
Содержанием этой главы явилась и проблема переинтонирования музыкальной интонации - как вокальной, так и симфонической - в связи с осовремениванием оперного сюжета. В качестве противоречивого примера, где партитура Верди зазвучала в мелодике современной речи, проанализирован спектакль Английской Национальной оперы "Риголетто" - опера Д. Верди, режиссер Д. Миллер, дирижер Марк Элдер, 1982 год.
В ракурсе исследуемой темы лондонская постановка "Риголетто" чрезвычайно показательна. Тем, что это одна из немногих в ХХ веке попыток согласования позиций режиссера и дирижера в самых глубинных слоях замысла, попытка вырастить оперный спектакль из общего корня - драматургического, действенного, музыкального. Ибо авторы спектакля, перенеся действие "Риголетто" в Нью-Йорк 50-х годов ХХ столетия, потребовали от героев другой, осовремененной, "музыки речи". Но прием показал свою несостоятельность - музыкальная стилистика вердиевского письма сопротивлялась интонационному "насилию", и дирижер с трудом "удерживал" свою часть замысла спектакля, который все-таки дал "трещину", разделившись на две половины: осовремененную и традиционалистскую.
С другой стороны высветил проблему осовременивания и связанных с ней дирижерских усилий спектакль Варшавской Камерной оперы "Свадьба Фигаро" - опера В.А. Моцарта, режиссер Й. Стукальска, дирижер Т. Бугай, 1986 год. В "Риголетто", где осовременена была ситуация, в последовательности "музыка - логика драматургии - характеры - визуальные образы спектакля - музыкальные образы спектакля" (логическая цепь работы над спектаклем) оперный синтез не затронул предпоследнее звено, и визуальная "часть" спектакля стала отторгаться от его основной ткани. В "Свадьбе Фигаро", где переосмыслениям в духе современного интеллектуализированного сознания подверглись герои Бомарше - да Понте - Моцарта, неувязка произошла на уровне "музыка - логика драматургии", обеспечив неорганичность серьезных героев в буффонной музыкальной среде. А дирижеру оставалось лишь искусственно сдерживать, не пускать в спектакль юмор, лишая гениальную музыку полнокровия.
На основании всех приведенных в четвертой главе фактов и проанализированных спектаклей сделан вывод об ограниченности дирижерских возможностей в условиях повествовательной режиссуры. Поскольку концептуальная система повествовательного оперного спектакля, ориентированного на конкретику "достоверной жизненной истории", не подразумевает философских или поэтических обобщений, часть музыкального содержания оказывается в них не востребованной - "провоцируя" музыкальное решение на "мелкую" психологию и театральную изобразительность, эта режиссерская эстетика лишает дирижирование его достоинства. "Устремления" музыки, с ее тенденцией к поэтизации содержания, слишком явно не совпадают здесь с "устремлениями" режиссуры, простроенной по законам жизненной достоверности. Спектакли, режиссура которых очерчивает жесткие "жизнеподобные" контуры, а вокальный текст понимается режиссером-постановщиком как "речь" оперных героев и становится, таким образом, средством обнаружения психологии, лишают работу дирижера присущего его деятельности эмоционально-смыслового объема. Вынужденный "обслуживать" жизненные соответствия, дирижер не может проявить собственную интерпретаторскую волю и участвовать в создании "отрешенной действительности"81 оперного спектакля на равных с режиссером. Одновременно он не может с исчерпывающей полнотой реализовать музыкальную образность партитуры - ее эмоциональные, атмосферные, поэтические возможности, вследствие чего оперный синтез оказывается ущербным, и спектакль теряет силу своего воздействия.
Исключение составляет только театр Д. Пуччини - причины этой исключительности, заложенные в самой конструкции пуччиниевских партитур, также рассмотрены в четвертой главе.
Пятая глава "Поэтическая оперная режиссура и дирижирование" рассматривает принципы взаимодействия режиссерского и дирижерского начал, характерные для поэтических режиссерских систем - они стали доминировать в оперном театре последних десятилетий ХХ века.
Отход от повествовательности и утверждение поэтической режиссуры, пользующейся языком монтажа и сценической метафоры, начали менять соотношение сил и расшатывать компромиссный хрупкий паритет, сложившийся в традиционных повествовательных постановках середины ХХ века. Режиссура начала осваивать "параллельные" сюжеты и смысловую "полифонию", бросая вызов дирижеру и оркестру. Вызов был принят: напряжение, возникшее во всех структурных элементах спектакля, привело к формированию более глубоких связей между сценическими и музыкальными образами, к появлению многоуровневых дирижерских решений, где действенный ряд музыкального развития оказался уравновешен выходами в обобщающий музыкальный "космос".
Усиление авторского начала в режиссуре, причины которого также стали темой пятой главы; концептуальность и связанное с ней переосмысление драматического конфликта музыкальной пьесы-партитуры; жесткая "вычерченность" и определенность конструкции метафорического спектакля - все это требовало того, чтобы музыка и музыкальное решение произрастали из одного с режиссурой корня, а не являлись сопровождением к режиссуре. Концептуальные перпендикуляры82, пронизавшие традиционные оперные сюжеты в "авторском"83 оперном спектакле, потребовали изменений в подаче звуковых образов. А необходимость перекраивания фрагментов партитуры - ибо линейное симфоническое развитие и "скачок в смысл", характерный для сценической метафоры, не всегда "прилаживаются" друг к другу без "разрывов" - прямо привела к созданию новой музыкальной логики, исключающей дирижирование партитурой как таковой, вне действенной системы спектакля. Темпы, фразировка, тембровая окраска (несоответствие которых сценическому действию не так "фальшивит" в "традиционном" оперном спектакле, как в концептуальном, "авторском") при расширении или кардинальном изменении содержания также потребовали уточнения и индивидуализации.
Изменившиеся требования к дирижеру, подразумевающие партнерство повышенной сложности с меньшей потерей лидерства, чем в традиционных повествовательных спектаклях, направили оперный театр в новую, неведомую ему сторону: в сторону тотального театра. На этом пути концептуального синтеза режиссерского и музыкального начал ему стали подвластны не только глубины подсознательного эмоционального мира, но и темы, никогда не открывавшиеся оперным "ключом": философские, публицистические, полемично-политические. На этом пути он обрел многоуровневую содержательность и явил ряд спектаклей, открывших перспективу развития оперного театра. Анализ этих спектаклей с точки зрения единства режиссерского и дирижерского решений представлен в пятой главе: "Музыка для живых", опера Г. Канчели, режиссер Р. Стуруа, дирижер Д. Кахидзе, Тбилисский театр оперы и балета им. Палиашвили, 1984; "Солдаты", опера Б.А. Циммермана, режиссер Г. Купфер, дирижер Б. Контарски, Staatsoper Stuttgart, 1989; "Монтекки и Капулетти", опера В. Беллини, режиссер П.-Л. Пицци, дирижер Р. Мути, Ла Скала, 1987; "Макбет", опера Д. Верди, режиссер Д. Паунтни, дирижер М. Элдер, Английская Национальная опера, 1990.
Яркий пример того, как сценическая метафора - элемент режиссерского языка - вырастает из дирижерского решения, обнаруживается в спектакле "Музыка для живых". Второй акт неожиданно уносит зрителя-слушателя в совсем другой мир, чем намечено первым действием. Там были бескрасочный, черно-белый колорит, полуразрушенная сцена-руина, конфликтное противостояние двух сил: гуманизма и милитаризма. И вдруг - кажущееся снятие конфликта, ибо здесь - "настоящий" театр. С обрывками цветных декораций, то взметающих под колосники, то опускающихся вниз. С разноцветьем старинных костюмов: зеленых, сиреневых, красных; с изыском итальянской мелодии. Сгрудившиеся по бокам больничные койки, суетливая беготня из кулисы в кулису - и выясняется, что мы находимся в военном госпитале, где итальянская труппа представляет для раненых оперную мелодраму "Любовь и долг".
Спектакль этот будет постоянно перебивать бомбежка, но артисты мужественно продолжат его.
Традиционная оперная мелодрама: с двумя героями-тенорами, влюбленными в прекрасную героиню-сопрано, связанную с тайной организацией "Вива, Италия" и в свою очередь влюбленную в ее главаря - красавца-баса. Традиционен и ее сценический облик: актеры-певцы страдают, заламывая руки, с придыханиями плачут, в финале размахивают трехцветным итальянским флагом.
В этом маленьком представлении есть элементы пародии на мелодраматизм итальянской оперы. Но это совсем не главное и не акцентированное спектаклем. Лирическая сцена, напоминающая сцену молитвы Дездемоны, крупный хоровой финал с самоубийством тенора, смерть героини на фоне криков "Viva, Italia!": итальянская опера здесь не случайна, ибо она для авторов спектакля - совершенство выражения человеческой страсти в самом отшлифованном, мелодически роскошном своем виде. Музыка, тонко стилизованная под Беллини - Верди, но едва уловимыми гармоническими и тональными ходами выдающая свою современную суть, вместе с ее исполнением оркестром и прекрасными "белькантовыми" певцами П. Бурчуладзе, Е. Гургенидзе, М. Маглаперидзе, Э. Чихладзе и Т. Гугушвили, становится метафорическим символом совершенства искусства. Метафорой венца творения человеческой души, метафорой идеала цивилизованного, духовного существования. Все нелогичности, повышенные страсти и мелодраматизмы романтической партитуры возведены Джансугом Кахидзе в абсолют красоты и сыграны с огромной силой драматического накала, с патетической правдой чувств, с бесстрашием перед романтическим преувеличением и с любованием мелодической красотой.
А когда все это гибнет от последней, самой сильной бомбежки, и актеры, только что умершие смертью своих героев, вновь гибнут по вине зловещих черных людей, олицетворяющих силы милитаризма, в этой сцене уже читается метафора погубленной культуры, погубленной цивилизации, ибо их сценическим выражением и стала в этом спектакле итальянская опера XIX века.
Реализовать столь сложную сценическую, режиссерскую (Р. Стуруа одновременно является автором либретто "Музыки для живых") метафору невозможно без интерпретаторской позиции дирижера: Джансуг Кахизде сыграл музыку "Любви и долга" не как "настоящий" маленький "спектакль в спектакле", хотя и явил все перипетии отношений, а как обобщенный символ красоты и гармонии. Выйдя на "прямой контакт с сутью"84, он создал сценическую метафору из музыки и ее исполнения, высвободил новую поэтическую энергию, которая тут же стала содержанием спектакля. Однако связь режиссуры и дирижирования в этом спектакле оказалась еще более кровной, чем это кажется на первый взгляд. Если дирижерское решение не оправдает столь "рисковой" постановочной задумки - сделать итальянскую оперу метафорой художественного совершенства мира, - ни эта режиссерская метафора, ни вообще содержание второго акта, а с ним и всего спектакля, просто не будут читаться.
Интеллектуализм публицистического режиссерского содержания уравновешен в этом спектакле эмоциональностью музыки, и наоборот: интеллектуализм музыкального решения проявляет режиссерскую эмоцию. Музыкальный театр последних десятилетий не знает более конструктивного опыта совместной работы режиссера и дирижера. Хотя и сама партитура уникальна: как тем, что создавалась под конкретных постановщиков в конкретном театре, так и тем, что в глубине своей идеи таит равный "вызов" - и режиссеру, и дирижеру.
Тенденция наиболее эффективного взаимодействия режиссера и дирижера именно на "поле" поэтической постановки прослеживается также на примере другого спектакля, проанализированного в пятой главе, - "Солдаты". Диссертант показывает, как обобщающие свойства сценических метафор, выстроенных режиссером Х. Купфером, мотивируют дирижера Б. Контарски к обобщениям на уровне музыки. В результате интерпретаторские возможности симфонического концептуального дирижирования содержательно и органично смыкаются с режиссурой.
Однако, утвердиться на этом плодотворном пути, ведущем в сторону поэтической оперной постановки с ее условиями для бесконфликтного взаимодействия режиссера и дирижера, театру нашего времени не удалось - путь преградило появление на оперной сцене драматической режиссуры, не умеющей прочитать музыкальный текст - партитуру или клавир - как текст драмы. Речь об этой ситуации идет уже в Шестой главе.
Исследованию объективных причин, по которым оперный театр стал обращаться к "услугам" драматических режиссеров, посвящен большой раздел шестой главы. Один круг причин связан с привычкой драматической режиссуры к концептуально-публицистическому мышлению и вытекающими из этого возможностями: концептуализации оперного спектакля, обогащения и усложнения сценического языка, преодоления традиционного для оперных постановок отставания от современных художественных направлений. Как констатирует исследователь, "все же работа драматических режиссеров в опере оказала благотворное влияние на всю культуру оперного театра. Началась борьба с укоренившимися штампами, спектакли стали идейно более значительными и осмысленными"85. Другой круг причин связан с усиливающейся коммерциализацией театра в целом и оперного театра в частности: театральной практике, все более переходящей на контрактно-гастрольную систему, выгоден короткий репетиционный процесс (а спектакли типа "Музыки для живых" или "Солдат" требуют времени и для согласования позиций режиссера и дирижера, и для репетиций) и интеллектуально-неутомительное - для зрителя, привыкшего к шоу-культуре, - зрелище.
Но если в занимательно-зрелищном плане драматическая режиссура своих целей добилась, то достичь художественности ей пока не удается. Дело в том, что на оперную арену XXI века вышел не только не умеющий читать нотный текст режиссер (культурная разница в поколениях, скажем, стрелеровского и поколения сегодняшних начинающих режиссеров - очевидна), но и антимузыкальный по сути, тяготящийся музыкой, отметающий ее из поля своего постановочного внимания и, как следствие, не идущий на контакт с дирижером.
К концу ХХ века нормой становится знакомство с музыкой не по нотному тексту, а по записям - аудио или даже видео. То есть по "пересказу с чужих слов", по чужим готовым трактовкам. Ситуация похожа на ту, как если бы режиссер драмы должен был поставить японскую пьесу, но, не понимая японского языка, не имея перевода и оказываясь не в силах прочитать эту пьесу, разрабатывал бы режиссерское решение с чьих-то посреднических слов или с чьей-то постановки. Работая в Мариинском театре над "Борисом Годуновым" Мусоргского, режиссер Виктор Крамер дал интервью газете "Смена": "Нет, партитуру я не читаю и на рояле не играю (...) Вот мы сейчас сидели с Валерием Гергиевым, и он мне рассказывал об этой музыке"86. Подобная интерпретация "с чужих слов" все более завладевает пространством музыкального театра, становясь его основной тенденцией.
Но, хотя сегодня совершенно ясно, что режиссура - профессия, не делимая на виды (как справедливо заметил Л. Висконти, целое десятилетие жизни отдавший театру Ла Скала: "Кино, театр, опера... Я бы сказал, что и там, и там, и там работа одинаковая. Несмотря на огромное различие используемых средств. А задача - вдохнуть жизнь в художественное произведение - всегда одна"87) и "завязанная" не на специфике отдельных видов театра, а на мировоззрении режиссера-интерпретатора, незнание режиссером музыкального языка обедняет будущую постановку. Либо лишает ее смыслового объема и делает плоско-банальной - эта ситуация рассмотрена в шестой главе на примере спектаклей "Отелло" (опера Д. Верди, режиссер И. Мошински, дирижер В. Гергиев, Мариинский театр, 1992 год) и "Кармен" (опера Ж. Бизе, режиссер Д. Бертман, дирижер К. Тихонов, "Геликон-опера", 1998 год). Либо разъединяет музыку и сцену, делая партитуру тем ненужным и забытым трамплином, с которого режиссерская фантазия взлетает в далекие от музыкального содержания "выси", образуя диссонанс между видимым и слышимым. Эта ситуация рассмотрена на примере спектаклей "Борис Годунов" (опера М. Мусоргского, режиссер В. Крамер, дирижер В. Гергиев, Мариинский театр, 2002 год) и "Пиковая дама" (опера П. Чайковского, режиссер А. Галибин, дирижер В. Гергиев, Мариинский театр, 1999 год).
Неизбежным следствием обеих ситуаций делается наблюдаемый в последнее время исход больших дирижеров из оперного театра.
Одновременно следует заметить, что тот же крамеровский "Борис Годунов" намечает какие-то непроявившиеся еще до конца линии и конфигурации "нового синтеза", намечает спектакли, где музыка может играть какую-то другую, не традиционно-оперную роль, и возможно, станет не основой для синтеза театральных средств, а лишь рядовым "фрагментарным" элементом этого синтеза. Во всяком случае, и в разобранном "Борисе Годунове" и в его же, Виктора Крамера, "Царе Демьяне" (музыка современных московских и петербургских композиторов), показанном на сцене театра Малой драмы в рамках фестиваля "Белые ночи" - 2001, явно "проклевывается" отношение к музыке как к смысловому перпендикуляру действия, а не наоборот, к действию как к смысловому перпендикуляру музыки, что на сегодня является установившейся "схемой".
В Заключении на основании предшествующих аналитических размышлений и выявленных театральных тенденций сделаны выводы о неизбежности цикличных обострений внутри пары "режиссер - дирижер"; о грядущем углублении противоречий между ними, обусловленном разновекторностью природы музыкального образа - с одной стороны, тяготеющего к слитно-логическому симфоническому развитию, что родственно прозаическому театральному мышлению, с другой, - обнаруживающего генетическую связь с поэтическими художественными формами, не открывающимися повествовательным "ключом". А также - и это можно считать главным выводом работы - о наиболее бесконфликтном сосуществовании режиссуры и дирижирования в спектаклях, поставленных языком поэтической режиссуры.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Маркарян Н. Повествовательный оперный театр в ХХ веке. Поэтика. Принципы взаимодействия режиссуры и дирижирования. СПб: Издательство Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2006. - Монография. 3 п.л.
2. Маркарян Н. Портреты современных дирижеров. М.: Аграф, 2003. - Сборник статей. 16 п.л.
3. Маркарян Н. Сценическая метафора в режиссуре современного оперного театра // Проблемы театральности. Сборник научных трудов СПАТИ под редакцией проф. М. Молодцовой. СПб, 1993. - Статья. 1 п.л.
4. Херц И. Оперная режиссура в перекрестном огне. Перевод и комментарии Маркарян Н. // Проблемы спектакля. Сборник научных трудов СПАТИ под ред. проф. Е. Горфункель. СПб, 1997. - Статья. 0,7 п.л.
5. Маркарян Н. Та самая Леонора // Театральная жизнь. 1987. № 10. - Статья. 0,4 п.л.
6. Маркарян Н. Вариации без фрака и цилиндра // Искусство Ленинграда. 1989. № 5. - 0,5 п.л.
7. Маркарян Н. Возрождение красоты или Пленники бельканто // Театральная жизнь. 1990. № 15. - Статья. 0,4 п.л.
8. Маркарян Н. Каденция порочной красоты // Театр. 1990. № 5. - Статья. 0,5 п.л.
9. Маркарян Н. Два лика Мариинки // Театральная жизнь. 1991. № 7. - Статья. 0,4 п.л.
10. Маркарян Н. Изгнанника воскреснувшее имя // Театр. 1991. № 7. - Статья. 0,5 п.л.
11. Маркарян Н. Эскиз на полях судьбы // Театральная жизнь. 1991. № 16. - Статья. 0,5 п.л.
12. Маркарян Н. В споре современных лягушек побеждает опера // Театральная жизнь. 1991. № 12. - Статья. 0,5 п.л.
13. Маркарян Н. Премьера одной репетиции // Петербургский театральный журнал. 1992. № 0. - Статья. 0,5 п.л.
14. Маркарян Н. Время собирать театр // Мир Петербурга. 1996. № 1. - Статья. 0,7 п.л.
15. Маркарян Н. Меж Гофманом и Мейерхольдом // Театральная жизнь. 2000. № 10. - Статья. 0,4 п.л.
16. Маркарян Н. Интеллектуальные игры Гидона Кремера // Театральная жизнь. 2001. № 4. - Статья. 0,4 п.л.
17. Маркарян Н. Камень преткновения: взаимоотношения драматического режиссера и оперной партитуры // Театръ: Russian Theatre Past and Present. Idyllwild, CA, USA. 2001. № 2. - Статья. 1 п.л.
18. Маркарян Н. "Мы были музыкой во льду..." // Скрипичный ключ. 1998. № 3. - Статья. 0,5 п.л.
19. Маркарян Н. О Вагнере, интеллектуальной энергии и сундучке с золотом // Скрипичный ключ. 1998. № 4. - Статья. 0,4 п.л.
20. Маркарян Н. Кремер против Кремера // Скрипичный ключ. 2001. № 7. - Статья. 0,4 п.л.
21. Маркарян Н. Интерпретация - это продукт личности и результат жизни // Скрипичный ключ. 2003. № 3. - Статья. 0,7 п.л.
22. Маркарян Н. Реквием на обломках мира // Скрипичный ключ. 2003. № 3. - Статья. 0,4 п.л.
23. Маркарян Н. Хеллоуин на Пятой авеню. Дирижеры современной Америки // Скрипичный ключ. 2004. № 1. - Статья. 0,6 п.л.
24. Маркарян Н. Abschied. Малер в исполнении дирижера Клаудио Аббадо // Скрипичный ключ. 2004. № 3. - Статья. 0,4 п.л.
25. Маркарян Н. Властелины "Кольца". Тетралогия Вагнера на Мариинской сцене // Большой журнал Большого театра. 2003. № 1. - Статья. 0,7 п.л.
26. Маркарян Н. Запаздывающий звук. Петербургская школа дирижирования: исторический и эстетический аспекты // Большой журнал Большого театра. 2003. № 3. - Статья. 0,7 п.л.
27. Маркарян Н. Туманный пейзаж грустного вальса. Симфонические концерты фестиваля "Звезды белых ночей" // Большой журнал Большого театра. 2003. № 4. - Статья. 0,6 п.л.
28. Драматический режиссер в современном оперном театре. Проблемы. Перспективы. - Лекция. 1 п.л. Утверждена и рекомендована к печати на заседании кафедры зарубежного искусства 30 сентября 2002 года (в печати).
29. Markarjan N. Hermann und Lise: Traeume und Realitaet der "Pique Dame" von Puschkin und Tschaikowski // Salzburger Akademische Beitraege. Salzburg: Wissenschaftlicher Verlag Mueller-Speiser, 2004. - Статья. 0,7 п.л.
30. Markarjan N. Interptetationswege der Opernwerke im Regietheater: prosaisch und poetisch ("Don Giovanni", "Figaros Hochzeit", "Die Zauberfloete" in Mariinski Theater 1990 - 2000 Jahrzehnten) // Salzburger Akademische Beitraege. Salzburg: Wissenschaftlicher Verlag Mueller-Speiser, 2005. - Статья. 1 п.л.
Сноски:
1 Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984. С. 166.
2 Замысел Мейерхольда заключался в том, чтобы вернуть опере художественную значительность повести Пушкина, утраченную в либретто Модеста Чайковского, сохранив при этом музыкальные достоинства партитуры. Об этом: Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: Искусство, 1969; Гликман И. Мейерхольд и музыкальный театр. Л.: Советский композитор, 1989; Самосуд С. Статьи. Воспоминания. Письма. М.: Советский композитор, 1984.
3 Об этом: Направник В. Эдуард Францович Направник и его современники. Л.: Музыка. 1991.
4 Мейерхольд В. К постановке "Тристана и Изольды" на Мариинской сцене 30 октября 1909 года // Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Часть первая. 1891 - 1917. М.: Искусство. 1968.
5 Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. Л.: ЛГИТМиК, 1988. С. 8.
6 Гвоздев А. Оперно-балетные постановки во Франции XVI - XVII веков // Очерки по истории европейского театра / Под ред. А.А. Гвоздева, А.А. Смирнова. Пг., 1923; Гвоздев А. Западноевропейский театр на рубеже XIX - XX столетий. Очерки. Л.-М: Искусство, 1939.
7 Марков П. Новейшие театральные течения (1898 -1923). М.: Ред-изд. Отд. ВСНХ, 1924; Марков П. В театрах разных стран. М.: ВТО, 1967.
8 Владимиров С. Действие в драме. Л.: Искусство, 1972.
9 Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. Л.: ЛГИТМиК, 1976.
10 Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука. 1969.
11 Образцова А. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX - XX веков. М.: Наука, 1984.
12 Гительман Л. Из истории французской режиссуры. Л.: Искусство, 1976; Гительман Л. Идейно-творческие поиски французской режиссуры ХХ века. Л.: Искусство, 1988; Гительман Л. "Красная брошюра" Андре Антуана // Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991; Гительман Л. "Евгений Онегин" П.И. Чайковского // Театр. 1983. № 6. С. 9 - 12.
13 Соловьева И. Немирович-Данченко. М.: Искусство, 1979; Соловьева И. Спектакль идет сегодня. М.: Искусство, 1966; Соловьева И. Ветви и корни. М.: Искусство, 1998.
14 Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. Л.: ЛГИТМиК, 1988; Барбой Ю. Теория перевоплощения и система сценического образа // Актер. Персонаж. Роль. Образ. Л.: ЛГИТМиК, 1986. С. 21 - 35.
15 Роллан Р. История оперы в Европе до Люлли и Скарлатти // Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. Вып. 1. М.: Музыка, 1986.
16 Кречмар Г. История оперы. Л.: ACADEMIA, 1925.
17 ЛивановаТ. История западноевропейской музыки до 1789 года. М.-Л.: Государственное музыкальное издательство, 1940.
18 Горович Б. Оперный театр. Л.: Музыка, 1984.
19 Конен В. Клаудио Монтеверди. М.: Советский композитор, 1971.
20 Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX века. 1873 - 1889. Л.: Музыка, 1973; Гозенпуд А. Русский оперный театр между двух революций. 1905 - 1917. Л.: Музыка, 1975.
21 Данько Л. Комическая опера в ХХ веке. Л.-М.: Советский композитор, 1976.
22 Мейерхольд В. К истории и технике театра // Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Часть первая. 1891 - 1917. М.: Искусство, 1968. С. 105 - 142. Мейерхольд В. К постановке "Тристана и Изольды" на Мариинской сцене 30 октября 1909 года // Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Часть первая. 1891 - 1917. М.: Искусство, 1968. С. 143 - 161.
23 Висконти Л Мой театр // Висконти о Висконти. М.: Радуга, 1990; Дебаты о Каллас с участием Лукино Висконти // Мария Каллас. Биография. Статьи. Интервью. М.: Прогресс, 1978. С. 118 - 154.
24 Стрелер Д. Театр для людей. М.: Радуга, 1984.
25 Покровский Б. Об оперной режиссуре. М,: ВТО, 1973; Покровский Б. Размышления об опере. М.: Советский композитор, 1979; Покровский Б. Ступени профессии. М.: ВТО, 1984.
26 Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М.: Радуга, 1984; Фельзенштейн В., Мельхингер З. Беседы о музыкальном театре. Л,: Музыка, 1977; Felsenstein W. Die Antworten ueber Musiktheater // Theatre dans le Mond. 1951. № 1; Felsenstein W. Der Weg zum Werk // Jahrbuch der Komischen Oper. II. Berlin. 1962.
27 Herz J. Opernregie im Kreuzfeuer // Herz J. Theater - Kunst des erfuellten Augenblicks. B.: Henschcelverlag, 1989. S. 319 - 325/
28 Берлиоз Г. Дирижер оркестра. М.: Юргенсон, 1893.
29 Вагнер Р. О дирижировании // Дирижерское исполнительство. Практика. Теория. Эстетика. М.: Музыка, 1975.
30 Малер Г. Письма. Воспоминания. М.: Музыка, 1964.
31 Вайнгартнер Ф. О дирижировании. Л.: Тритон, 1927.
32 Лайнсдорф Э. В защиту композитора. М.: Музыка, 1988.
33 Малько Н. Воспоминания. Статьи. Письма. Л.: Музыка, 1972.
34 Мравинский Е. Записки на память. Дневники. 1918 - 1987. СПб: Искусство, 2004.
35 Рождественский Г. Треугольники. М.: Слово, 2001.
36 Лосев А. История античной эстетики. Кн. 1. М.: Искусство, 1992. Кн. 2. М.: Искусство, 1994. Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976.
37 Шпет Г. Театр как искусство // Вопросы философии. 1988. № 11. С. 77 - 92.
38 Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. Л.: Художественная литература, 1986; Шкловский В. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1983; Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л.: Гослитиздат, 1936; Уэллок Р., Уоррен О. Теория литературы. М.: Прогресс, 1978; Лотман Ю. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
39 Мейерхольд В. К постановке "Тристана и Изольды" на Мариинской сцене 30 октября 1909 года // Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Часть первая. 1891 - 1917. М. 1968.
40 Изданная сорока годами раньше книга Рихарда Вагнера "О дирижировании" (Muenchen, 1869), хоть и затрагивает аналогичные темы, принадлежит дорежиссерской эпохе и сосредоточена на соответствии дирижерской интерпретации воле композитора, а не образам конкретного спектакля.
41 Тилес Я. Дирижер в оперном театре. Л.: Музыка, 1974.
42 Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. М.: ВТО, 1978.
43 Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. М.: ВТО, 1978. С. 22 - 23.
44 Покровский Б. Об оперной режиссуре. М.: ВТО, 1973.
45 Покровский Б. Размышления об опере. М.: Советский композитор, 1979.
46 Ротбаум Л. Опера и ее сценическое воплощение. М.: Советский композитор, 1980.
47 Покровский Б. Размышления об опере. М.: Советский композитор, 1979. С. 74.
48 Там же. С. 73.
49 Дебаты о Каллас с участием Лукино Висконти // Мария Каллас. Биография. Статьи. Интервью. М.: Прогресс, 1978. С. 118 - 154.
50 Брук П. Блуждающая точка. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1996; Брук П. Пустое пространство. М.: Прогресс, 1976.
51 Стрелер Д. Театр для людей. М.: Радуга, 1984.
52 Herz J. Theater - Kunst des erfuellten Augenblicks. Berlin: Henschelverlag, 1989.
53 Альтшулер В. Функции оркестра и место дирижера в сценической интерпретации оперы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. СПб.: Академия театрального искусства, 2005.
54 Малер Г. Письма. Воспоминания. М.: Музыка. 1966.
55 Маркарян Н. Повествовательный оперный театр в ХХ веке. СПб: Издательство Санкт-Петербургской академии театрального искусства, 2006.
56 Маркарян Н Портреты современных дирижеров. М.: Аграф, 2003.
57 Представлены на двух последних страницах автореферата.
58 Драматический режиссер в современном оперном театре. Проблемы. Перспективы. - Лекция. 1 п.л. Утверждена и рекомендована к печати на заседании кафедры зарубежного искусства 30 сентября 2002 года (в печати).
59 Маркарян Н. Режиссер и дирижер в оперном театре ХХ века // Межвузовская научно-практическая конференция "Оперный театр - прогноз на XXI век". Доклад. СПб., 1998; Маркарян Н. "Пиковая дама" А. Галибина - В. Гергиева" // Межвузовская научно-практическая конференция, посвященная 200-летию А.С. Пушкина. Доклад. СПб. 1999; Маркарян Н. Малер - дирижер оперного театра // Международная научная конференция "Российско-австрийские культурные связи". СПб. 2000.
60 Проблемы пространственного ритма разрабатывает А. Аппиа в своей книге "Die Musik und die Inszenierung", а также В.Э Мейерхольд в статье "К постановке "Тристана и Изольды" на Мариинской сцене 30 октября 1909 года".
61 Соллертинский И. Мейерхольд и музыкальный театр // Пиковая дама. Л., 1935. С. 41.
62 Образцова А. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX - XX веков. М., 1984. С. 118.
63 Там же. С. 118.
64 Об этом: Малер Г. Письма и воспоминания. М.: Музыка. 1964; Walter Br. Gustav Mahler. Berlin und Frankfurt a. Mein: Fischerverlag, 1957.
65 Об этом: Wade-Matthews M. The history of musical instruments and music-making. London: Southwater, 2001. P.89.
66 Вагнер Р. О дирижировании // Дирижерское исполнительство. Практика. Теория. Эстетика. М., Музыка, 1975.
67 Вагнер Р. О дирижировании // Дирижерское исполнительство. Практика. Теория. Эстетика. М.: Музыка, 1975. С.110.
68 Там же. С.130.
69 Цит. по: Бауэр-Лехнер Н. Воспоминания о Густаве Малере // Густав Малер. Письма. Воспоминания. М.: Музыка, 1964. С.554.
70 А также считал, что за новой архитектурной моделью оперного театра, которую он по собственной идее реализовал в Байройте, пойдут другие архитекторы и произойдет замена старых оперных зданий - новыми (См.: Вагнер Р. Предисловие по поводу обстоятельств, в которых создавалось торжественное сценическое представление "Кольцо Нибелунга" // Вагнер Р. Статьи и материалы. М.: Музыка., 1974.). Но этого не произошло.
71 См. об этом: Корд К. Никаких глупостей // Маркарян Н. Портреты современных дирижеров. М.: Аграф, 2003.
72 Тилес Я. Дирижер в оперном театре. С. 30.
73 Альтшулер А. Функции оркестра и место дирижера в сценической интерпретации оперы. С. 165.
74 Брук П. Блуждающая точка. М., 1996. С. 195.
75 Альтшулер А. Функции оркестра и место дирижера в сценической интерпретации оперы. С. 169.
76 Термин Ю.М. Лотмана, см.: Лотман Ю. Семиотика сцены // Театр. 1980. № 1. С. 89 - 99.
77 Причем часто это был не полноценный спектакль в формах самой жизни, но спектакль, содержание которого исчерпывалось копированием внешних форм. Такие спектакли и названы здесь и далее "жизнеподобными".
78 Лотман Ю. Замечания по структуре повествовательного текста. С. 386.
79 Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. С. 24.
80 Казадезюс Ж.-К. Гора // Маркарян Н. Портреты современных дирижеров. М.: Аграф, 2003. С. 97.
81 Термин Г.Г. Шпета. См.: Шпет Г. Театр как искусство // Вопросы философии. 1988. № 11, С. 82.
82 Как режиссерский термин слово "перпендикуляр" впервые употребил Борис Покровский, который говорит о смысловом перпендикуляре к композиторскому тексту как об источнике постановочной идеи. См.: Покровский Б. Размышления об опере. С. 70 - 168.
83 Термин используется по аналогии с "авторским кино".
84 Выражение Д. Стрелера, см.: Бушуева С. Итальянский современный театр. Л.: Искусство, 1973. С.35 - 141.
85 Тилес Я. Дирижер в оперном театре. С. 30.
86 Крамер В. Новый "Борис Годунов" бьет по эмоциям // Смена. 2002. 11 июня. С. 12.
87 Висконти Л. Мой театр // Висконти о Висконти. М., 1990. С.384.