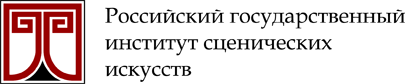Диссертация
Чепуров А.А.
Чепуров Александр Анатольевич
А.П. ЧЕХОВ И АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ (1889-1902)
Специальность 17.00.01. – Театральное искусство
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения
Санкт-Петербург
2006
Работа выполнена на кафедре русского театра Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:
Ю.А. Смирнов-Несвицкий – доктор искусствоведения, профессор
Д.Н. Катышева – доктор искусствоведения, профессор
А.С. Ласкин – доктор культурологии, профессор
ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ГНИУ «Государственный институт искусствознания»
Защита состоится «____»______________2006 г. в 17.00 на заседании Диссертационного совета Д 210.017.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства по адресу: 191 028, Санкт-Петербург, Моховая ул., 35, ауд. 418.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии (Моховая ул., д. 34)
Ученый секретарь Диссертационного совета
доктор искусствоведения С.И. Мельникова
В истории развития театрального искусства существуют такие театральные события, которые в полной мере, открыто и катастрофично демонстрируют процесс смены художественных координат. В силу свойственного театральным произведениях публичного, событийного характера, «спектакли-события», «спектакли-катастрофы» оказываются носителями эстетических конфликтов, которые характеризуют динамику сущностных процессов, свойственных искусству данного исторического момента, позволяют не только представить, но и чувственно пережить диалектику художественного перелома.
К таким социокультурным катастрофам, переломившим ход развития сценического искусства, принадлежит знаменитый «провал» комедии А.П. Чехова «Чайка» на сцене императорского Александринского театра в Петербурге 17 октября 1896 года. В истории не только русского, но и мирового театра это театральное событие стало своего рода вехой, разделяющей две эпохи развития сценического искусства, – конец дорежиссёрского и рождение режиссёрского театра. Полем эстетического сражения здесь стала драматургия нового направления, драматургия, формирующая новую модель действия, а, следовательно, являющаяся, пользуясь определением Вс. Мейерхольда, предвестием новой системы сценической образности, требующей радикальных перемен на драматической сцене. Именно это обстоятельство делает особенно актуальным не только обобщенный проблемно-эстетический анализ данного явления, но в большей степени – предметно-реконструктивный подход к нему, предполагающий воссоздание всей полноты события, его предыстории и продолжения, сравнительный анализ театральных текстов в динамичной взаимосвязи всех компонентов функционирующей системы, в конечном счёте, формирующих и конструирующих сценическую образность.
Актуальность данной работы состоит в том, что изучение сценического опыта постановок произведений А.П. Чехова на сцене Александринского театра на рубеже XIX-XX веков дает возможность раскрыть и проанализировать механизм взаимодействия новаторской драматургической структуры с архетипами традиционного театра. История отношений А.П. Чехова с петербургской императорской сценой (постановки и возобновления драмы «Иванов», комедии «Чайка», водевилей, осуществленные при жизни драматурга в 1889 – 1902 годах) представляется особенно значимой и актуальной в свете одной из самых насущных задач современной науки о театре, устремленной к созданию исторической поэтики театрального спектакля.
Отношения А.П. Чехова с казенной императорской сценой, как правило, не становились объектом самостоятельного театроведческого изучения и рассматривались исключительно в негативном ключе в свете тех сценических открытий, которые связаны с постановкой чеховских пьес в Московском Художественном театре. Согласно этой позиции, старая, традиционная театральная система потерпела фиаско, «обанкротилась», оказалась косной и неспособной к воплощению новаторской драматургии Чехова, поиску нового театрального языка, который сформировал режиссерский театр ХХ века1. При этом история успешной постановки «Иванова» на александринской сцене в 1889 году обычно отделялась в особый чисто «актерский» сюжет, а постановки чеховских произведений в 1902–1910 годах, осуществленные в Александринском театре М.Е. Дарским и Ю.Э. Озаровским («Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня», водевили), если и упоминались, то не становились предметом специального анализа.
Тенденция однозначно негативной оценки александринской «чеховианы» достаточно прочно укоренилась в науке о театре, а желание сторонников старой академической сцены защитить честь мундира было сочтено лишь «попыткой ретушировать» события2. Именно так расценивалось стремление оправдаться за провал со стороны самого постановщика «Чайки» Е.П. Карпова, возложившего в своих мемуарах всю вину за случившееся на публику и представившего данный несчастный эпизод «досадной случайностью»3. Многих не убедили и попытки разобраться в причинах и сути произошедших эстетических коллизий, которые предпринял в своих мемуарах очевидец событий, знаменитый александринский актер Ю.М. Юрьев4.
Однако дело вовсе не в том, чтобы оправдать или осудить Александринский театр, воплощающий в себе всю традиционную систему русского сценического искусства, явно нуждавшуюся в реформе своей организационно-творческой и образной структуры. Гораздо важнее и интереснее вскрыть механизм взаимодействия художественных законов, устанавливаемых новой драматургией, требующей специфического, авторского театра, с архетипами традиционной сцены.
Еще в 1930-е годы С.Д. Балухатый, занявшись изучением драматургии А.П. Чехова, соприкоснулся со сценическими экземплярами его пьес. Изучая и публикуя режиссерский экземпляр «Чайки», разработанный К.С. Станиславским, ученый обратился и к ходовому экземпляру Александринского театра. Несмотря на то, что исследователь лишь в общих чертах характеризовал имеющиеся в нем сценические пометки и корректуры, объем интенсивной творческой работы в процессе подготовки александринских спектаклей впервые проявился достаточно отчетливо5. Во всяком случае, вопрос о соотношении творческого замысла Чехова и его сценического воплощения в работах С.Д. Балухатого был впервые поставлен.
Проблема несовпадения формирующегося театра А.П. Чехова с существующими в России его времени театральными моделями остро ощущалась как самим писателем-драматургом, так и современной ему критикой, которая писала о «несценичности» чеховских пьес, «неопытности» и «ошибках» драматурга, нарушавшего «правила сцены». Неприятие чеховской драматургии Малым театром, сложные отношения с александринской сценой наводили и самого автора, и театральных деятелей на мысль, что для постановки пьес Чехова необходим особый, «свой» театр. И поскольку успех чеховских произведений был определенно и исключительно связан с рождением Московского Художественного театра (начиная с триумфа «Чайки» в 1898 году), истории взаимоотношений А.П. Чехова с МХТ посвящено было немало фундаментальных исследований. Проблема постижения чеховской поэтики раскрывается на многих страницах сочинений К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко6. Неоценимым вкладом в ее разработку стала научная публикация режиссёрских экземпляров чеховских спектаклей К.С. Станиславского, предпринятая в полном объеме в 1980-е годы7. О проблеме сценичности произведений Чехова писали такие крупнейшие режиссеры ХХ века, как Г.А. Товстоногов и А.В. Эфрос, П. Брук и Дж. Стреллер8.
Оценивая степень изученности вопроса, следует подчеркнуть, что ведущие российские ученые-театроведы, анализируя поэтику пьес Чехова и эволюцию творческих подходов к его драматургии, стремились в своих исследованиях сформулировать природу ее сценичности. Непреходящее значение имеют здесь работы П.А. Маркова, К.Л. Рудницкого, М.Н. Строевой, И.Н. Соловьевой 9.
Вскрывая новаторское своеобразие поэтики пьес Чехова, анализируя специфику полифонического построения действия его пьес, Н.Я. Берковский, А.П. Скафтымов, Б.И. Зингерман, З.Я. Паперный подготовили и практически сформировали современный взгляд на само понятие «театр Чехова», театр, оказавший мощное влияние на мировые театральные системы ХХ века10. Анализируя образную систему пьес Чехова, которая «продемонстрировала последовательно новый тип художественного мышления, отменивший прежние, казавшиеся незыблемыми, ограничения, отменивший не в частностях, а в целом»11, А.П. Чудаков справедливо отмечал «открытость» поисков драматурга, экстраполирующихся в ХХ век12. По убеждению исследователя, чеховская драматургия стала «тем кладезем, из которого черпали и черпают все новейшие театральные направления – от символизма до театра абсурда»13. Развивая эту мысль, Э.А. Полоцкая утверждала, что, начиная с «Чайки», «широта художественных открытий Чехова-драматурга, основой и одновременно венцом которых была объективность, предполагающая интерес автора к драме «в каждой фигуре», предопределила его влияние на самые различные эстетические системы»14. Т.К. Шах-Азизова, изучая взаимосвязи чеховских пьес с новой западно-европейской драмой, обратила особое внимание на то, что своей «Чайкой» Чехов во многом сместил жанровые ориентиры современного театра15. В.Б. Катаев, находя аналогии в русской литературе, в частности, в «гоголевском образце», подчеркнул «неизменность, повторяемость» мотивов и объяснил эту «предсказуемую повторяемость», заданную автором, не просто «скрытой общностью между различными персонажами», но и включенностью чеховских произведений в некую метафизическую драматическую модель русской культуры16.
Важным этапом осмысления места и роли театра Чехова в развитии мирового театрального процесса стало все более пристальное внимание не только к безусловным новациям драматурга, но и к изучению тех элементов и художественных приемов, которые были унаследованы от «театра архетипов» и переработаны в структуре «авторского театра». На повестку дня выходил вопрос, насколько в процессе конструирования новых действенных структур, в разрушении театральных канонов и правил, Чехов использовал традиционные схемы. Так, еще Н.Я. Берковский, опровергая мнение известного театрального критика А. Р. Кугеля о тривиальности некоторых художественных приемов пьес А.П. Чехова, подчеркивал весьма интересное свойство его драматургии: пользуясь, казалось бы, старомодными театральными эффектами, драматург пересоздавал их в своих пьесах в контексте новых, важных для него внесюжетных конфликтов в образы глубокие и подчас философско-символические17. Формулируя всемирно-историческое значение чеховской «Чайки», Б.И. Зингерман подчеркивал, что эта во многом программная пьеса, вбирая в себя разноречивый опыт европейской «новой драмы» второй половины XIX века, давала ему «целостное и сжатое толкование: возводила его к всеединству»18. О своеобразии сюжетных заострений и глобальности «катастроф» в пьесах Чехова убедительно писал Б.О. Костелянец19. Таким образом, в чеховской драматургии открывалась диалектика связей и отталкиваний от господствующей в театре его времени «действенной схемы», что позволяло более ясно и достоверно представить её место и значение в развитии художественных процессов.
О повторяемости ситуаций, заданных в сюжетах чеховских пьес в их сложных взаимосвязях с реальностью, как на уровне замысла, так и в контексте последующей сценической судьбы, писали многие исследователи. Среди них З.Я. Паперный, В.Я. Лакшин, А.П. Кузичева, В.В. Гульченко, М. Волчкевич20. Особую символическую роль смоделированного в чеховской «Чайке» конфликта старых и новых форм, отмечали в своих работах И.В. Кириллова и И.Н. Уварова 21.
А.П. Кузичева, сравнивая первую александринскую постановку «Чайки» с премьерой гоголевского «Ревизора» (при всей разности и внешней несхожести создавшихся вокруг этих спектаклей ситуаций) подчеркивает всю силу «авторских катастроф», порожденных, в одном случае, авторской неудовлетворенностью, в другом – агрессивным непониманием зрительного зала. Исследовательница раскрывает огромное творческое значение этих эстетических «взрывов» для последующей творческой эволюции художников в сторону создания самостоятельной и осознанно утверждаемой художественной системы, когда от драматических прозрений они подходили к обретению всеобъемлющего творческого метода22.
Столетие со времени написания и первой постановки чеховской «Чайки», которое широко отмечалось в 1995–1996 годах, вызвало новый всплеск интереса к этой «загадочной пьесе»23.
Известный петербургский театровед А.Я. Альтшуллер, в последние годы своей жизни активно занимавшийся проблемой взаимоотношений А. П. Чехова с представителями русской актерской школы, писал о том, что «судьба ”Чайки“ была предрешена самим замыслом пьесы»24. Он же отмечал, что, нисколько не оспаривая сам факт «громадного неуспеха» первого представления чеховского произведения в Александринском театре, необходимо детально восстановить картину первой постановки на основе того громадного документального материала, которым мы на самом деле располагаем25.
В последние годы в этом направлении сделано немало. В первую очередь, привлекает внимание работа Е.Я. Дубновой26, которая проследила историю «театрального рождения “Чайки“», а также «мелиховская хроника», созданная А.П. Кузичевой27, где подробно и объективно воспроизводятся события, развернувшиеся вокруг александринской премьеры. Ценным и полезным в плане переосмысления ситуации, сложившейся вокруг петербургской постановки, является публикация ряда газетных рецензий тех лет в комментированной антологии «А. П. Чехов в русской театральной критике», составленной А. П. Кузичевой28.
Целью данного исследования является выявление механизмов функционирования и трансформации театральных систем, разработка научных методов реконструкции сценических текстов, открытие закономерностей соотношения авторских интенций с их сценическим претворением в различных театрально-эстетических координатах. Принципиально важным в данном случае является выяснение всех обстоятельств и факторов, оказавших влияние на формирование той пограничной театрально-эстетической ситуации, которая сложилась в русском театре конца XIX века в связи с постановками пьес А.П. Чехова. Изучение опыта постановок чеховской драматургии на казенной петербургской сцене имеет целью, с одной стороны, проследить движение Чехова к осознанию и утверждению собственной оригинальной драматургической системы, с другой – раскрыть противоречивый процесс реагирования традиционной сцены на новые веяния в сценическом искусстве, возникшие после открытий, сделанных на чеховском материале в МХТ.
К целеполагающим мотивам относится изучение принципов конструирования сценического образа, его художественных смыслов в процессе жизни спектакля, его зрительского восприятия и последующего осмысления в художественной критике.
Задача исследования состоит в том, чтобы попытаться реконструировать чеховские постановки Александринского театра как эстетические события, вбирающие в себя сценические взаимодействия, драматургию зрительского восприятия и суждения критиков. В задачу исследования входит изучение самого процесса взаимодействия авторского замысла с господствующими на сцене театральными моделями и архетипами, рассмотрение хода репетиций, где происходила своеобразная «пристройка» пьесы к арсеналу наличествующих в театре сценических средств, а также к прогнозируемому зрительскому восприятию. Главным в этом исследовании является изучение сценической партитуры спектакля в ее действенном развитии и анализ зрительских реакций.
Одной из важнейших задач исследования является комплексный анализ всего «блока» постановочных материалов, связанных с александринскими спектаклями 1896-1902 годов. Именно рассмотрение этих документов позволяет по-новому оценить многие обстоятельства взаимоотношений А. П. Чехова с александринской сценой. Постановочная документация (монтировочные ведомости, описи декораций и костюмов) в комплексе с ходовым экземпляром дает возможность представить себе развитие сценического действия спектакля во всех деталях, представить постановку в пространственно-временном континууме. Внимательное контекстуальное чтение ходового экземпляра пьесы, таящего немало тайн и загадок, позволяет буквально «по минутам» проследить мизансценическую и интонационную драматургию спектакля. Здесь оказывается вполне реальным и возможным проанализировать взаимодействие речевой и пластической сторон создаваемых актерами образов, что позволяет уловить ту тонкую грань, которая определяет соотношение внешней и внутренней линий поведения героев. А это в случае с драматургией Чехова является принципиально важным.
Скрупулезный анализ сценического экземпляра александринской «Чайки» (1896, 1901 и 1902 годов) позволяет более точно и предметно произвести сопоставление александринских спектаклей со знаменитой постановкой К.С. Станиславского. И хотя данный аспект не является исключительной задачей данной работы, такой сравнительный анализ впервые проводится на страницах диссертации.
Принципиальным для данного исследования является определение места и роли «новой драмы» и, в частности, чеховской драматургии в структуре репертуара и художественной образности казенной императорской сцены.
Объектом данного исследования становятся театрально-художественные процессы, происходившие в русском театре конца XIX – начала XX века. Внимание фокусируется на существенных переменах в сценической поэтике, на самих принципах организации действия, на характере мизансценирования и создания актерских образов, которые были подготовлены и обусловлены появлением «новой драмы», и в частности драматургии А.П. Чехова. Новая драматургия рассматривается в контексте так называемого «ходового репертуара» русской сцены 1890-1900-х годов, что позволяет выявить общие и индивидуальные тенденции творческих поисков драматургов, как «встраивающихся» в общее движение, так и склонных к инновациям, как существующих в русле общих тенденций, так и идущих «против течения». Одной из важнейших проблем становится проблема сценичности, в понимании которой усматривалось серьезное расхождение между драматургами-ремесленниками и представителями «новой драмы». В работе проводится комплексный анализ функционирующей на казенной императорской сцене организационно-творческой системы в контексте историко-художественных тенденций и эстетических представлений рубежа XIX - XX веков.
Судьба чеховской драматургии прослеживается от момента складывания замысла в воображении драматурга до сценической реализации пьесы, её сценической жизни, но и в контексте движения историко-театрального процесса: рождения новой театральной системы, а затем взаимопроникновения старой и новой систем в ходе формирования новой эстетической ситуации начала ХХ века.
Предметом исследования являются постановки пьес А.П. Чехова в Александринском театре в 1889-1902 годах. Принципиальное ограничение рассматриваемого периода лишь прижизненными чеховскими спектаклями вызвано стремлением сконцентрировать внимание на эволюции отношения самого автора к канонам и стереотипам сценической условности императорской сцены. В диссертации подробно прослеживается работа драматурга над второй редакцией его пьесы «Иванов» (1889), которая создавалась специально для постановки на александринской сцене. В центр внимания ставится процесс сознательной авторской адаптации к канонам сценичности, стереотипам зрительского восприятия и творческим индивидуальностям актеров-александринцев. В орбиту исследования попадают коллизии, связанные с прохождением пьесы (изменившей свой жанр с комедии на драму) через Театрально-литературный комитет, коллизии, возникающие в процессе распределения ролей, в ходе репетиций, а также в контексте восприятия спектакля зрителями и критикой. Важный блок материалов, представленных в диссертации, связан с неосуществленным проектом постановки на петербургской сцене пьесы «Леший» (1889), которая была отвергнута неофициальным комитетом, состоявшим из достаточно близких и весьма расположенных к Чехову литераторов и драматургов. Автором анализируются также постановки чеховских водевилей, сыгравших значительную роль в творческих биографиях таких корифеев александринской сцены, как В.Н. Давыдов, М.Г. Савина, К.А. Варламов, П.М. Свободин, Н.Ф. Сазонов.
Центральное место в диссертации занимает первая постановка комедии А.П. Чехова «Чайка», осуществленная на александринской сцене в 1896 году. Принципиальное значение имеет тот факт, что в работе рассматривается не только скандально знаменитый спектакль, состоявшийся 17 октября, но и последующие представления пьесы, в которых были существенно скорректированы и авторский текст, и отдельные сценические положения. В диссертации подробно исследован процесс подготовки спектакля, прохождение пьесы через цензуру и литературный комитет, перипетии, связанные с распределением ролей и репетициями. Подробно анализируется монтировка пьесы: ее декорации, костюмировка, обстановка и реквизит. Ключевое значение имеет детальная реконструкция и анализ сценического действия спектакля, выполненные на основе оригинальной методики, предложенной и обоснованной автором. Предметом научной реконструкции становится не только сценическое действие, но и зрительские реакции. В данной работе впервые предпринят полный комплексный анализ критических отзывов на этот исторический спектакль, выявлены позиции различных сторон, вовлеченных в театрально-эстетическую полемику.
Особый, впервые разрабатываемый в работе сюжет, представляет собой история так называемой «реабилитации» «Чайки» на сцене Александринского театра, имевшей место на рубеже 1890-1900-х годов. Здесь анализируется возобновление «Иванова» в 1897 году, осуществленное Е.П. Карповым в Александринке с новым составом исполнителей, гастрольное представление «Чайки» в Варшаве, предпринятое александринцами в 1901 году (материалы об этом забытом спектакле впервые вводятся в научный оборот), и, наконец, спектакль «Чайка», поставленный режиссером М.Е. Дарским на петербургской сцене в 1902 году.
Научная новизна данной работы состоит в том, что в ней, в ходе анализа культурно-эстетической катастрофы, изучения ее предыстории и последствий, автором комплексно исследуется динамика взаимодействия всех элементов театральной системы (автор – актер – режиссер – зритель – критика) в единстве художественных и организационных компонентов, субъективных и объективных факторов на основе документальной реконструкции того или иного спектакля-события.
Концентрируя своё внимание на природе новаций, осуществленных Чеховым, исследуя перспективы поисков «новых форм» на театральной сцене конца XIX – начала XX веков, исследователи зачастую оставляли в тени те процессы, которые происходили внутри наличествующей театральной системы, пытающейся, так или иначе, адаптироваться к этим «новым формам» или адаптировать их к себе, и в этом смысле являющейся противоречивой и подвижной. В данной работе внимание как раз и сосредоточено на анализе эстетических мотиваций внутри традиционной театральной системы, на реконструкции организационно-творческих связей внутри господствующего на казенной сцене «монтировочного» принципа построения спектакля. В ходе исследования впервые предпринята попытка воссоздать механизм взаимодействия двух систем в ходе конструирования и восприятия художественных смыслов, борьбы эстетических установок, корректирующих сценический текст и устанавливающих новые эстетические координаты. Впервые в объеме целой драматургической и театральной структуры проводится научная реконструкция спектаклей так называемого дорежиссёрского театра. При этом реконструируется не только само сценическое действие в его пространственно-временном континууме, но воссоздается и анализируется партитура зрительского восприятия происходящего. При исследовании характера трансформаций драматургического текста Чехова под воздействием зрительских реакций, обнаруживаются сугубо театральные мотивации тех изменений и корректив, которые были внесены драматургом в пьесу и обеспечили ее последующий успех уже на сцене театра нового типа. Кроме того, реконструкция сценической структуры спектакля позволяет впервые провести сравнительный анализ действенной партитуры постановок Александринского театра и МХТ, и тем самым не сугубо оценочно, а зримо и детально представить себе их отличие и характер мизансценических мотиваций, что открывает реальные перспективы сравнительного театроведения. Анализируя процесс взаимодействия двух театральных систем, автор в данной работе прослеживает историю сценической жизни спектакля. В диссертации подробно исследуются не только модификации премьерных чеховских спектаклей Александринки, но и выявляется характер усвоения чеховской модели действия уже под влиянием опыта МХТ, сквозь призму театрального подражания и стилизации отдельных приемов в постановке «Чайки», осуществленной на сцене Александринского театра в 1902 году М.Е. Дарским. Таким образом, в работе учитывается опыт аккумулирования новых театральных идей и нахождение оптимальной для традиционной театральной системы формы эстетического отклика на открытия в области сценической поэтики.
Именно в таком предметно-реконструктивном, событийном и системном аспекте рассматривается в данном исследовании один из острейших эстетических конфликтов, захвативших отечественную сцену конца XIX столетия, явившихся предвестником «театральной революции» рубежа веков. Столкновение театра А.П. Чехова с системой «театра архетипов», господствующей на российской императорской сцене, позволяет во многом по-новому понять векторы перспективных, закладывавшихся тогда, на рубеже веков, новых традиций отечественного театра, не однолинейно, а многофокусно рассмотреть те тенденции, которые, преломляясь и взаимодействуя, до сих пор питают энергетические поля не только сценической «чеховианы», но и определяют собственно координаты театральных систем.
Характеризуя методологическую базу исследования, следует особо подчеркнуть, что научное изучение спектакля, как справедливо утверждает Ю.М. Барбой, неразрывно связано с установлением его исторической типологии, с поиском и открытием законов развития в смене «преходящих, исторически неповторимых ценностей»29. Однако, если «критерием» спектакля, как считает ученый, следует признать наличие «полного набора» всех его атрибутов, частей, свойств, внутренних связей, то для подхода к построению научной типологии, необходима «реконструкция» не просто сценического текста, но спектакля как театрального события во всей полноте его динамических структурных связей.
Проблема научной «реконструкции» спектакля является важнейшей и перспективной задачей истории театра, ибо открывает возможность от анализа литературно-драматургических структур перейти собственно к театроведческому анализу сценической драматургии. В самом походе к проблеме реконструкции сценических текстов диссертация опирается на богатый опыт фундаментальных трудов, посвященных либо отдельным спектаклям, либо методологии работы над спектаклем и его научной реконструкции. Здесь можно назвать комментированные публикации материалов к отдельным постановкам Московского Художественного театра, начавшие появляться еще в начале ХХ века и продолженные в наши дни усилиями комиссии по изучению и изданию наследия К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. С другой стороны, важное значение имеет и подход, возникший еще в 1920-е годы в кругу Вс. Мейерхольда, под влиянием профессора А.А. Гвоздева, который отразился в опытах специальной «театральной лаборатории» по записи спектаклей. Спустя десятилетия группа исследователей под руководством О.М. Фельдмана начала систематическую публикацию постановочных материалов спектаклей Мейерхольда. Подобный интерес к «нотации» сценических текстов и комплектованию блока постановочных материалов имел место в практике театра Б. Брехта. А в Италии под руководством Ф. Маротти получила развитие мощная школа архивного изучения и систематизации постановочных документов.
Такой подход, ранее применимый лишь к театру мхатовского (издание режиссерских экземпляров К. С. Станиславского) и послемхатовского (анализ режиссерских партитур Вс. Мейерхольда) периода, оказывается, распространим и на так называемый «дорежиссерский» театр. Тем более он важен применительно к спектаклю, возникшему, что называется, в «пограничной» эстетической ситуации.
Внимание к сценическим текстам различных эпох, ярко проявившееся на заре ХХ века, в период бурного развития режиссуры, когда собственно режиссерский текст явственно «отслоился» от литературного, казалось, должен был привести к созданию «библиотеки» научно-театральных реконструкций. Однако, опробовав отдельные методики, используемые немецкими театроведами и активно переосмысливаемые в 1920-е годы основателем ленинградской театроведческой школы А.А. Гвоздевым, наше театроведение надолго должно было «забыть» это перспективное направление. Отмежевавшись от «опасного формализма», метод, однако, подспудно продолжал жить, с одной стороны, перекочевав в область источниковедения, а с другой – в область комментирования литературных текстов пьес. Так в работах С.С. Данилова и некоторых его учеников продолжают публиковаться постановочные материалы классических русских пьес. Параллельно к сценическим текстам, как уже говорилось выше, активно и последовательно обращается С.Д. Балухатый, публикуя и анализируя в своих трудах о поэтике драматургии Чехова материалы, связанные с ходовыми и режиссерскими экземплярами александринских и мхатовских спектаклей30. Однако, если в первом случае поле театроведческого анализа, все больше сужаясь, ограничивалось зачастую фактологией, не прорываясь в область создания исторической поэтики спектакля, то во втором – характер использования интереснейших сценических материалов не выходил за рамки изучения и сопоставления с творческой лабораторией писателя.
Перспективу данному направлению историко-театрального анализа придал С.В. Владимиров, на волне режиссерского «ренессанса» 1960-х годов вплотную подошедший к проблеме построения исторической поэтики русского театра31. Углубившись в изучение предпосылок зарождения и развития режиссерского искусства в России, он приходит к осмыслению спектакля как некоей эстетической целостности, развивающейся в историческом времени и пространстве.
«Реконструкция» сценических текстов, как считают А.В. Бартошевич и В. Ю. Силюнас, оказалась важной и с точки зрения исследования образных систем спектаклей различных эпох32. Предмет любого вида анализа (вплоть до семиотического) как минимум должен наличествовать. Однако текст театральный – текст весьма специфический. В любом, даже строго документированном виде, он существует лишь гипотетически.
Каждое театральное событие единично, уникально и неповторимо. Оно существует лишь в системе действенных взаимосвязей, где помимо авторов и исполнителей присутствуют еще воспринимающие и реагирующие на него зрители, для которых, собственно, и устраивается представление. Именно как событие и следует рассматривать любую сценическую структуру. Подход к сценическим произведениям как к «театральным событиям» (theatrical event) активно разрабатывается современным театроведением, как на материале современного театра, так и применительно к явлениям истории сценического искусства33.
В случае с чеховскими спектаклями Александринского театра (и с постановкой «Чайки» в особенности) событийный анализ представляется единственно продуктивным. Обращаясь к исследованию зрительских реакций на основе многочисленных мемуарных и журналистских откликов на спектакль, автор пытается выявить социо-психолгические механизмы конструирования или разрушения смысла драматургической и сценической структуры действия. Реакции зрительской аудитории и театральной критики, представляющие важный элемент спектакля, многое объясняют в самой его природе.
Источниковедческая база исследования строится исключительно на документальных материалах, в большинстве своём впервые вводимых в научный оборот. В первую очередь, в диссертации анализируется весь комплекс постановочных документов, сосредоточенных в фондах Дирекции императорских театров, хранящихся в РГИА, материалы Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства и Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Среди этих источников переписка о постановке спектаклей, монтировочные ведомости, описи декораций, костюмов, бутафории, реквизита, обеспечивающих ход спектаклей на императорской сцене в 1890-1900-е годы, цензурные, режиссерские и суфлерские экземпляры пьес, эскизы декораций и фотографии спектаклей. Специфика подхода, отличающего данную работу, состоит в том, что в ней впервые в полном объеме сделана попытка совместить и сопоставить материалы искусственно расчлененного после Октябрьской революции документального комплекса, воссоздающего целостность театрального спектакля. В ходе реконструкции самого процесса подготовки спектаклей в Александринском театре в орбиту исследования вовлекаются материалы театрального законодательства, приказы и распоряжения по театральной части, отдаваемые чиновниками различных уровней. Привлеченные для анализа материалы репертуарной части (переписка, распоряжения, отчеты, статистические и финансовые справки), материалы Драматической цензуры Главного управления по делам печати, протоколы Театрально-литературного комитета, переписка с авторами, сборные ведомости, – позволяют восстановить реальную картину прохождения и бытования драматических произведений на сцене в системе «ходового репертуара» казенной драматической сцены.
Исключительным условием контекстуального анализа сценического текста спектаклей, поставленных по пьесам А.П. Чехова, является обращение к широкому объему ходовых экземпляров, хранящихся в фонде «Русская драма» Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки. Сквозной просмотр и детальное изучение режиссёрских, суфлерских и прочих пометок, сделанных в этих экземплярах, позволил восстановить характер мизансценирования и интонационную партитуру изучаемых спектаклей.
Важным источником данной работы является комплекс материалов периодической печати, связанных как с премьерными представлениями, так и со сценической жизнью исследуемых спектаклей. В диссертации впервые анализируется весь объем прессы, посвященной премьерному спектаклю «Чайка» в Александринском театре, а также отклики и рецензии, связанные с ее двумя возобновлениями.
Материалы периодической печати в сопоставлении с широчайшим кругом мемуарной и эпистолярной литературы дают возможность проведения «реконструкции» и анализа зрительского восприятия спектаклей почти по минутам. Здесь звучат голоса самого автора, его ближайшего окружения, его друзей и оппонентов, голоса актеров, режиссёра, деятелей литературы, театра, обыкновенных зрителей.
Работа имеет важное практическое значение в построении курса истории русского драматического театра, и в частности, в разработке тем, связанных с эстетической борьбой рубежа XIX-XX веков. Она открывает новые перспективы изучения поэтики пьес А.П. Чехова и их театральных возможностей, объясняя природу сценических трансформаций драматургического текста. Кроме того, в работе обоснована и разработана методика научной реконструкции спектакля «дорежиссёрского» театра, которая может быть использована, как студентами-театроведами в историко-театральных семинарах, так и исследователями театра, открывая перспективу построения исторической поэтики спектакля, столь необходимой как для теоретиков, так и для практиков театра.
Апробация работы проходила в ходе обсуждений на заседаниях кафедры русского театра Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
Содержание диссертации нашло отражение в обширной монографии «Александринская “Чайка”» (2002), в целом ряде статей, опубликованных, начиная с 1996 года в журналах «Театральная жизнь», «Театр», «Drama Review», в сборниках: «Спектакль как предмет научного изучения», «Границы спектакля», «Мелиховский сборник», в материалах Международной Чеховской конференции FIRT/IFRT «Полёт «Чайки» (1996), Чеховских конференций в Москве, Санкт-Петербурге, Мелихово и Таганроге. По материалам диссертации прочитаны курсы в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, в университетах Берлина, Хельсинки, Стокгольма. Методика реконструкции спектакля, разработанная автором, используется им в семинарах по истории русского театра, по анализу драматургических произведений, в курсах лекций по истории русского театра и теории драмы.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, отражающих этапы взаимодействия драматургии Чехова с императорской сценой, заключения, четырех приложений, в которых представлены наиболее важные из вводимых в научный оборот архивных документов, и списка использованной литературы. В свою очередь, каждая глава делится на разделы, соответствующие выдвигаемым в исследовании проблемам - посвященные отдельным спектаклям, этапам работы над ними или какому-либо блоку документальных источников.
Во Введении дается обзор литературы вопроса, обосновывается выбор темы исследования, анализируются и классифицируются документальные источники, а также разрабатывается методика реконструкции театрального события в контексте историко-художественного процесса.
В Первой главе «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ СЦЕНА И ПОИСКИ А.П. ЧЕХОВЫМ «СВОЕГО ТЕАТРА» становление драматургической системы А.П. Чехова рассматривается в контексте театральной ситуации 1880-90-х годов.
В Первом разделе первой главы «Законы сценичности» и драматургические образы А.П. Чехова. Поиски соответствия («Иванов». 1889 год)» в центре внимания – первый опыт взаимодействия А.П. Чехова с императорской сценой, относящийся к 1889 году, когда на александринской сцене был поставлен «Иванов». Этот опыт (как, впрочем, и соприкосновение с московскими частными антрепризами Ф.А. Корша и М.М. Абрамовой), погружение начинающего драматурга в театральную среду, попытка сближения с Малым театром (А.П. Ленским и А.И. Южиным), знакомство с влиятельными лицами петербургской театральной жизни (Д.В. Григоровичем, А.С. Сувориным, А.Н. Плещеевым, П.М. Свободиным и В.Н. Давыдовым), – позволили Чехову осознать специфику театральной условности казенной сцены, которая в то время считалась «общенациональной и образцовой», и выработать свои театрально-эстетические ориентиры. В данном разделе исследуются процессы, происходящие в европейской и русской театральной культурах и связанные с обретением новой доминанты художественного единства спектакля. Выясняется, что взамен старой, существовавшей на европейской сцене системы театральных жанров, опирающейся на жесткий канон жанров и амплуа и регламентированный арсенал постановочных средств, куда попросту вмонтировались произведения различных авторов, все более ощущается потребность в рождении новой, более гибкой системы, восприимчивой к индивидуальным особенностям художественного мира драматурга. «Авторская режиссура», стремящаяся одолеть обезличивающие черты типовой жанровой классификации и установить живые ансамблевые взаимодействия, найти интонационную доминанту спектаклей (чему выразительный пример видится в деятельности А.Н. Островского), оказывается недостаточной и ограниченной мерой. Не случайно в 1880-е-начале 1890-х годов появляется целый ряд попыток предложить коренную реформу постановочной системы императорских театров34. Инициативу здесь, с одной стороны, берут драматурги: Вл. И. Немирович-Данченко, А.С. Суворин, Е.П. Карпов, П.П. Гнедич, с другой актеры – А.П. Ленский, А.И. Южин. Появление в репертуаре российских театров европейской «новой драмы» – произведений Г.Ибсена, Г. Гауптмана, Г. Зудермана, – ведет к необходимости обретения нового уровня идейно-художественной целостности сценического произведения.
В разделе проанализирован процесс работы Чехова над новой редакцией пьесы «Иванов», которая была осуществлена в 1888 – 1889 годах специально для спектакля в Александринском театре35. Принципиальное значение приобретает также изучение коллизий, связанных с прохождением в репертуар императорских театров такой чеховской пьесы, как «Леший» Подробный разбор мнений и отзывов Театрально-литературного комитета императорских театров позволяет выявить и оценить степень соответствия чеховских драматургических произведений укоренившимся и допустимым для императорской сцены образцам.
Второй раздел первой главы «”Чайка”» на пути в репертуар Александринского театра» посвящен сюжетам, связанным с прохождением пьесы Чехова через драматическую цензуру и Театрально-литературный комитет. В случае с драматургическим произведением, в котором Чехов сознательно нарушал «каноны сценичности», раскрываются механизмы его адаптации к господствующим идеологическим и эстетическим схемам и стереотипам. В середине 1890-х годов А.П. Чехов в своей переписке с А. С. Сувориным активно обсуждает проблему создания нового театра 36. Он говорит о театре принципиально отличном от традиционной казенной сцены. Он даже советует А.С. Суворину перестроить открытый им театр Литературно-артистического кружка по плану архитектора Ф.О. Шехтеля (того самого, который впоследствии перестроит здание для МХТ)37. Размышляя о репертуаре этого театра, Чехов мечтает о М. Метерлинке, мечтает о чем-то странном, но «хотя бы имеющем свою физиономию»38.
Чеховская «Чайка» предстает «знаковым» произведением, своеобразным творческим манифестом новой театральной системы, в которой заключен некий метасюжет столкновения старой нормативной и четко регламентированной художественной системы с системами динамичными, целиком подвластными индивидуальным свойствам творческой личности автора, формирующими каждый раз свой художественный мир – мир, стремящийся к целостности и завершенности, но всегда новый и непредсказуемый.
В первой главе прослеживается, как в творческой лаборатории драматурга возникал и вызревал замысел нового сценического произведения, как из самой жизни, из ситуаций и лиц, окружавших Чехова, возникал сюжет театральный, как творческая личность автора постепенно проникала в структуру рождающейся пьесы. В работе затрагиваются известные и малоизвестные истории прототипов «Чайки», раскрывается процесс формирования своеобразного художественного мифа, экстраполирующегося в театральную и жизненную реальность. Особое внимание уделяется исследованию эстетической функции такой сюжетной коллизии, как провал треплевской пьесы, которая была следствием авторского предощущения конфликта, назревавшего в эстетическом пространстве современного театра. Чехов сознательно шел «треплевским» путем, «врал против театральных правил», тем самым провоцируя неминуемое столкновение в архетипами современной сцены и стереотипами зрительского восприятия.
Важным аспектом исследования является пристальное изучение документальных материалов Цензурного и Театрально-литературного комитетов, через которые неминуемо должно было пройти любое драматическое произведение, прежде, чем попасть на сцену. Подробно исследуя историю цензурного экземпляра «Чайки», хранящегося в Санкт-Петербургской театральной библиотеке39, автор приходит к выводу, что достаточно умный и проницательный цензор драматических сочинений И.М. Литвинов в своих замечаниях справедливо исходил из того, что чеховская пьеса представляет собой оригинальное, не укладывающееся в стереотипы современного театра произведение, и любые камуфляжные исправления и доделки не смогут изменить сути авторской структуры, которая либо принимается целиком, либо должна быть отвергнута. Тем не менее, в своих замечаниях он точно указывает на мотивировку конфликта, которая у Чехова носит не морально-нравственный (что было характерно для ходового репертуара), а скорее сверхнравственный, эстетический характер. Именно с попыткой закамуфлировать это свойство новаторской драматической структуры связаны те, казалось, незначительные, но достаточно принципиальные моменты, речевые обороты и ситуативные положения, которые цензор предложил скорректировать самому автору.
Впервые детально изученный отзыв Театрально-литературного комитета, хранящийся ЦГИА40, даёт возможность соотнести чеховскую пьесу с типологией ходового репертуара русской сцены 1890-х годов. В результате обнаруживается, что именно отзыв комитетских «мудрецов» очень точно предвосхитил и спрогнозировал тот конфликт, который возник на премьере между пьесой Чехова и стереотипами восприятия зрителей и критики. Выясняется, что сам способ изложения сюжета «Чайки» в отзыве комитета своеобразно адаптировал содержание пьесы к тому жанровому архетипу современной драмы, который доминировал на казенной сцене и ассоциировался с популярными драмами В.И. Немировича-Данченко, А.И. Сумбатова, Е.П. Карпова, М.И. Чайковского и других. С другой стороны, активно проведенная в отзыве параллель с ибсеновской «Дикой уткой», свидетельствует о том, что «новая драма» уже заняла свою особую репертуарную нишу и обросла своими стереотипами восприятия. Сама структура чеховской пьесы отнюдь не испугала авторов отзыва своей принадлежностью к новаторскому направлению в репертуаре. Она скорее озадачила их своей непохожестью на что-либо определенное и подлежащее классификации, а соответственно, индивидуальные особенности и черты авторской структуры были сочтены, как и предполагал сам Чехов, «погрешностями против сценических правил», неопытностью Чехова-драматурга и невольной подменой драматургических приемов повествовательными.
Особое внимание обращено в диссертации на историю, связанную с выбором театра для сценической постановки «Чайки». Принципиальным является то, что ни Театр Ф.А. Корша с успехом поставивший «Иванова», ни Малый театр в лице А.П. Ленского не выразили энтузиазма по поводу перспективы включения «Чайки» в свой репертуар. И речь здесь шла не о каких-либо личных симпатиях или антипатиях, а о «неопределенности» структуры чеховской пьесы, размывающей представления о жестко регламентированной и дифференцированной системе эстетических координат. В этой связи протекция А.С. Суворина, настаивавшего на постановке «Чайки» в Александринском театре, представляется достаточно четко мотивированной. На александринской сцене господствовал гибкий принцип сценического эклектизма, основанный не на ансамблевой спаянности действенной структуры, а на монтировочной многовариантности композиции спектакля. Универсальность такого подхода, казалось, давала возможность «обставив» пьесу первоклассным составом, освоить любую драматическую структуру.
В главе дается анализ процесса развития принципа «монтировочной режиссуры» на александринской сцене от его утверждения в 1830-е годы до конца XIX века. Появлению чеховской «Чайки» в репертуаре Александринского театра предшествовала цепь серьезных перемен, связанных с реформой и развитием постановочного искусства. На смену достаточно безличной «монтировочной» режиссуре 1880-х годов (П.М. Медведев, Ф.А. Федоров-Юрковский) приходит принцип «самоигрального» репертуара, проводимый в первой половине 1890-х годов известным драматургом и управляющим труппой В.А. Крыловым. Такой подход к формированию репертуара предполагал поддержание структурного единства спектакля на основе «аннигиляции» творческого «я» драматурга, всецело подчинившегося «архетипам» и стереотипам, господствующим на сцене. Возникавшая таким образом «сыгранность» спектаклей, основания на варьировании известных, говоря современным языком, имиджевых схем и условно-сценических положений, имитирующих жизненно узнаваемые ситуации, таила в себе известного рода художественную ограниченность, замкнутость театрального мира на самом себе и, в конечном счете, творческую бесперспективность. Вместе с тем, занимаясь инсценировками произведений русской классики и постановками зарубежной драматургии, В.А. Крылов существенно обогатил саму систему постановочного искусства, предложив развернутые и зачастую подробные режиссёрские комментарии, позволяющие целостно и многослойно выстраивать структуру спектакля. Творческая программа известного драматурга и режиссёра Е.П. Карпова, пришедшего в мае 1896 года на смену В.А. Крылову, была основана на стремлении реформировать систему художественных взаимосвязей в самой структуре спектакля попытаться содержательно переосмыслить логику соподчинений «монтировочной» системы. Сценическая обстановка, выбор и назначение артистов на роли, мизансценирование, интонационная драматургия, единство «тона» должны были быть в постановке пьесы строго детерминированы. Стремление к бытовой и жизненной достоверности в сочетании с ясным и достаточно органичным пониманием театральной условности позволило Е.П. Карпову в лучших своих спектаклях по произведениям А.Н. Островского, А.В. Сухово-Кобылина, Г. Зудермана и многих современных ему российских авторов достичь весьма значительных творческих результатов. Главным достоинством художественной программы Е.П. Карпова было возвращение в репертуар Александринского театра настоящего литературного материала. Однако в приверженности Е.П. Карпова, как драматурга и режиссёра, традиционной драматургической форме, основанной на жанровой и типологической определенности, впоследствии сказалась и его ограниченность, что особенно остро проявилось при первом же столкновении Е.П. Карпова с новаторской драматургией А.П. Чехова.
Таким образом, в заключении первой главы закономерным представляется вывод о том, что рождающаяся в драматургии А.П. Чехова художественная модель не имела шансов быть реализованной в системе современного ему русского театра и требовала либо серьезной адаптации, либо появления иной сценической модели, чувствительной и восприимчивой, способной перевоплощаться в художественный мир автора.
Во Второй главе «ПОСТАНОВОЧНАЯ СИСТЕМА АЛЕКСАНДРИНСКОЙ СЦЕНЫ И ДРАМАТУРГИЯ А.П.ЧЕХОВА» анализируются степень соответствия художественного видения драматурга тем укоренившимся в императорских театрах способам постановки новых пьес, которые, хотя и в сильно модернизированном виде, существовали здесь практически с 1830-х годов.
В Первом разделе второй главы «Система монтировки спектаклей и “предлагаемые обстоятельства” пьес А.П. Чехова» на основе комплексного изучения постановочных материалов и документов дирекции императорских театров (в первую очередь, всей монтировочной системы) предпринята попытка проследить процесс сценической адаптации художественного образа среды в пьесах Чехова и, в частности, в «Чайке». Анализ монтировочных ведомостей позволяет установить пространственные координаты будущего спектакля41, выявить меру подвижности и восприимчивости традиционной монтировочной системы к новациям современной драматургии.
Во второй главе диссертации исследуется блок постановочной документации, сложившийся на протяжении XIX века в Российском театре. Прежде всего, анализируется монтировочные ведомости спектаклей в сопоставлении их с инвентарными описями декораций императорских театров. Система «типовых декораций», сложившаяся в театральном хозяйстве еще в романтическую эпоху под влиянием немецкой и французской организационно-постановочных систем, позволяла обеспечивать обслуживание всего объема ходового репертуара, трансформируясь лишь под влиянием художественных координат сменяющихся театральных эпох и стилей. Влияние реалистической драмы и историко-бытовой тенденции в театрально-декорационном искусстве существенно преобразило характер сценической обстановки, но не изменило сути «монтировочного» принципа, основанного на варьировании типовых модулей декораций. Принцип монтировки предполагал своеобразное адаптирование «предлагаемых обстоятельств» драматургических произведений к имеющимся в арсенале театра обстановочным средствам. В монтировке режиссёр расписывал авторские ремарки, характеризующие место и обстоятельства действия пьесы, сообразуясь с реальными возможностями сцены и канонами мизансценирования.
Анализ произведений «новой драмы» говорит о том, что обстановка и характер мизансценирования, заложенный в авторских ремарках драматургов, требовал трансформации существующей системы. Прослеживая по монтировкам и режиссёрским экземплярам 1890-х годов характер преображения художественного мира идущих на сцене Александринского театра драматургических произведений, можно со всей определенностью сказать, что творческие задачи в спектаклях при «обстановке» пьес зачастую сводились к постановочному примитиву. Именно этим можно объяснить и вошедший в пословицу «карповский примитив», когда поставленные на поток спектакли по современным пьесам были похожи один на другой, и зрители постоянно видели вариации одних тех же декорационных элементов в разных сочетаниях42.
Вместе с тем, чеховская драматургия потребовала создания особой атмосферы, где сама обстановка, детали и предметы становились символически-действенными. Предметы и их семантика в чеховской пьесе обретали новый смысл в соответствии с той ролью, которую они играли в процессе развития действия. В чеховской «Чайке» озеро, вяз, аллея в парке, перегороженная эстрадой, медальон, кресло на колёсах, качалка, чучело чайки, склянка с эфиром, – становятся такими же активно значимыми образами, как и взаимодействующие с ними персонажи. Характер освещения, ракурс, в котором подается один и тот же предмет, приобретают здесь весьма определенный смысл.
В ходе анализа работы Е.П. Карпова над созданием монтировки чеховской пьесы выясняется, что режиссёр пытался «увязать» условно-сценический стереотип с попыткой выстроить выразительную обстановку действия. Будучи человеком художественно чутким и проницательным, подчеркивая чуть остраняющую условную театральность, присутствующую в пьесе, режиссер в целом выстраивал в своем спектакле вполне бытовую и типически-реалистическую модель действия. В постановке Александринского театра была заложена художественная двойственность, одновременно сближающая его с условно-театральным стереотипом и от него отстраняющая.
Второй раздел второй главы «Распределение ролей и репетиции с актерами» посвящен одному из важнейших структурообразующих аспектов театральной системы – распределению ролей, а именно – проблеме корреляции характеров героев устойчивыми условно-театральными клише, неразрывно связанными с индивидуальными свойствами и приемами актерского исполнительства и мастерства корифеев императорской сцены. Распределение ролей и «реконструкция» самого процесса репетиций дает возможность проследить и проанализировать процесс пристройки чеховской пьесы к системе театральной условности, к творческим индивидуальностям александринской труппы.
В главе ставится вопрос о соотношении творческих интенций драматурга и его видения персонажей своей пьесы с природой актерских индивидуальностей александринцев. Подробно и документально реконструируя запутанную историю распределения ролей в чеховской «Чайке», автор диссертации анализирует репертуар актеров александринской труппы конца XIX века. Становится очевидным, что набор индивидуальностей-амплуа, сложившийся в Александринском театре к этому времени, достаточно жестко корректирует авторский замысел драматурга. Ощутив еще во время постановки «Иванова» болезненность такой корректировки, когда работа над образом строилась не на открытии персонажа в себе, а на «подгонке» героя под свои приемы и штампы, Чехов постепенно устраняется от традиционного еще со времен Н.В. Гоголя участия автора в процессе репетиций. Показательным в данном случае является и отказ М.Г. Савиной от участия в спектакле. Актриса, уловив «неопределенность» характера Нины Заречной, предпочла ей (не только и не столько по соображениям возрастного несоответствия) роль более жестко и характерно очерченной Маши, а затем и вовсе отказалась играть в чеховской пьесе. В этом смысле назначение на роль Нины Заречной В.Ф. Комиссаржевской, которая своей нервно-психологической организацией, непредсказуемой и изменчивой, казалось, разрушала любой стереотип и утверждала принцип лирической исповедальности и эмоциональной самоценности, было логичным и в наибольшей степени соответствовало разомкнутой структуре чеховской пьесы, самому характеру конфликта, экстраполировавшегося в жизнь. В исполнении остальных ролей срабатывал стойкий стереотип амплуа, на который были ориентированы и с которым буквально сжились артисты императорской сцены. За исключением В.Н. Давыдова, вместо предлагавшегося ему Чеховым Дорна «облюбовавшего» роль Сорина, «человека, который хотел...», и сумевшего сценически воплотить жизненную историю «неудачника», достаточно емко мотивировав печальный итог его жизни, – все остальные артисты существовали лишь в границах привычных для них характерных схем. Именно это соотношение актеров с образами чеховской пьесы позволяет в новом свете увидеть весь репетиционный период спектакля в Александринском театре, объяснить ту растерянность, которую испытывали артисты, лишенные привычных «подпорок», заключающихся в характерной определенности персонажей и даже в запрограммированности «авторского тона». Понятными тогда оказываются рекомендации Чехова «идти от себя» и «быть проще». Попытка прорваться сквозь штампы и стереотипы приемов, с помощью которых артисты «монтировали» характеры персонажей в самых различных драматургических произведениях, удалась лишь на одной репетиции, а затем, как тонко отмечал И.Н. Потапенко, «чеховские люди» все больше стали походить на «александринских». В результате, вступив на непроторенную дорогу открытия новой системы, создания сценического образа, рождающегося из отношений индивидуальности артиста с драматургическим персонажем, заданным автором, артисты Александринского театра по сути дела «повернули» назад и пошли по пути «приноравливания» авторской структуры пьесы Чехова к знакомым и более привычным действенным конструкциям.
Третья глава «ПОСТАНОВКА ЧЕХОВСКОЙ «ЧАЙКИ» НА АЛЕКСАНДРИНСКОЙ СЦЕНЕ (октябрь 1896 года)» делится так же, как предыдущая, на два раздела.
В Первом разделе третьей главы «Проблемы реконструкции сценического текста» формулируется и обосновывается методика одного из применяемых в диссертации подходов к реконструкции сценического текста, основанного на анализе сценических пометок в ходовых экземплярах пьес. На основе изучения ходового экземпляра, хранящегося в фонде «Русская драма» Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки43, в диссертации впервые осуществляется научная реконструкция спектакля Александринского театра «Чайка» 1896 года. Произведенный постраничный анализ ходового экземпляра позволяет выявить несколько слоев сценического текста, относящегося к различным вариантам этой легендарной постановки, и последующих обращений александринской сцены к чеховской «Чайке» (до и после спектакля МХТ). Во-первых, оказывается возможным «расслоить» пометки Е.П. Карпова (спектакль 1896 года) и спектакля М.Е. Дарского (спектакль 1902 года). Во-вторых, среди пометок выявляются и следы некоей третьей, доселе неизвестной, александринской постановки. Выясняется, что александринцы сыграли «Чайку» на своих гастролях весной 1901 года в Варшаве, что опровергает мнение, будто в театре существовало некое табу на «скомпрометированное» в стенах императорского театра чеховское произведение. На самом же деле обращение александринцев к чеховской драматургии после печально знаменитого провала было достаточно постоянным. А.П. Чехов не выпадал из орбиты внимания и сотрудничества с петербургской драматической труппой. В работе скорректированы суждения С.Д. Балухатого, который еще в 1930-е годы, обращаясь к характеристике ходового экземпляра44, давал суммарную оценку режиссёрским пометкам, имеющимся на его страницах, невольно совмещая принципы «домхатовской» (Е.П. Карпов) и «послемхатовской» (М.Е. Дарский) режиссуры Александринского театра. В ходе анализа всех трех слоев пометок, относящихся к спектаклям 1896, 1901 и 1902 годов, в диссертации прослеживается некая «драматургия» отношений театра с чеховской драматической структурой, развивающаяся во времени в соответствии с теми изменениями, которые происходили в театральной системе александринской сцены. Кроме того, в диссертации впервые проанализирован слой пометок, относящихся к тем корректурам, которые после «провала» пьесы на премьере произвели А.С. Суворин и Е.П. Карпов перед вторым представлением пьесы 21 октября 1896 года. Выясняется, что «Чайка» на последующих четырех спектаклях в октябре-ноябре 1896 года шла в «отредактированном» по зрительским реакциям виде. Сопоставляя текст первой публикации пьесы в журнале «Русская мысль» (декабрь 1896 года) с корректурами ходового экземпляра, автор приходит к заключению, что характер исправлений, внесенных и авторизованных А.П. Чеховым после премьеры, имеет сугубо театральные мотивации. На страницах ходового экземпляра оказывается запечатленным конфликт, который возник между авторской и театральной художественной моделью действия и соответствующими им художественными системами.
Второй раздел третьей главы «Научная реконструкция постановки комедии А.П. Чехова «Чайка» в Александринском театре (1896 год)» представляет собой подробный анализ-воссоздание действенной структуры спектакля Александринского театра «Чайка» (1896) на основе сценического (ходового) экземпляра пьесы, хранящегося в Санкт-Петербургской театральной библиотеке. Более того, речь идет не только о мизансценических и темпо-ритмических реалиях постановки, но и о тех коррективах драматургического текста, которые возникли, как говорилось выше, под влиянием зрительских реакций после премьерного спектакля.
Проникая в творческую лабораторию Александринского театра, прослеживая логику действенного анализа авторской структуры и последующего её сценического претворения, которое осуществлял Е.П. Карпов, автор обнаруживает некую противоречивость в подходе постановщика к трактовке мотиваций поступков героев, общей атмосферы действия и образного строя пьесы. Вопреки распространенному мнению, режиссёрская партитура Е.П. Карпова на поверку хранит следы достаточно вдумчивой работы. Здесь мы сталкиваемся с детальной планировкой сцен (выясняется, что работа с макетом еще в домхатовский период активно практиковалась в императорских театрах), с подробным мизансценированием и активным использованием сценических эффектов (свет, звук). Подробно разработанной выглядит и интонационная партитура действия (Е.П. Карпов активно пользуется цезурой-паузой). Да и сам характер мизансценирования является, что называется, сложносочиненным. Так, например, режиссёр демонстрирует своё умение строить параллельное многофигурное действие, тонко очерчивать ситуативные повороты, подчеркивать некую театральность положений, сочетая бытовую жизненную достоверность с открытостью условно-театрального приема (выход к рампе, развертывание мизансцены «на зал», «актерствование» одного из персонажей внутри бытовой ситуации). Однако, при ближайшем рассмотрении мизансцен в сопоставлении с анализом драматической структуры пьесы А.П. Чехова, обнаруживается, что Е.А. Карпов в своей режиссёрской разработке исходит из принципа прямого, бытового соответствия действенного импульса и жеста героя. Он еще «не слышит» чеховских подтекстов и выстраивает мизансцены, которые по большей части акцентируют, а иногда даже иллюстрируют вербально закрепленные эмоциональные порывы. Выстраивая интонационную партитуру, активно пользуясь таким средством, как пауза, Карпов зачастую смещает авторские акценты, «спрямляя» реакции персонажей, делая их более определенными.
Автором диссертации применяется сравнительный анализ режиссёрских экземпляров Е.П. Карпова и К.С. Станиславского45, который рельефно подчеркивают разницу подходов, характерных для двух театральных систем. Вышивая сценическую «вязь» по тексту или «сверх текста» чеховской пьесы, К.С. Станиславский исходит в своем театральном сочинительстве из иного понимания действенной природы пьесы. Он основывает свою мизансценическую и интонационную партитуру на принципе «несоответствия», контрапунктного соотношения внешнего и внутреннего действенного посыла. В его замысле реальное физическое, материальное существование героя расходится с его намерением, его внутреннее самоощущение противоречит внешнему поведенческому ряду. Именно в этом кроется скрытый драматизм чеховского спектакля МХТ. Е.П. Карпов же исходит из целостно-завершенного, характерно определенного восприятия героя, что было ему ближе по самой природе его мировосприятия и мировоззрения. Вместе с тем следует подчеркнуть, что в ряде эпизодов Е.П. Карпов обнаруживает чуткость к авторской структуре и предлагает весьма удачные решения отдельных эпизодов и сцен. На одной из репетиций режиссёру удалось настроить актеров по камертону лирического самовыражения. К тому же Карпов добросовестно и последовательно шел за авторским текстом пьесы, за всеми его нестандартными мотивами и поворотами. Однако именно этот «прорыв» в авторскую структуру и сыграл с премьерным спектаклем «злую шутку». Спектакль в результате «завис» между свойственным режиссёру, актерам и театру в целом традиционным, бытовым пониманием драматургической структуры и особенностями театра Чехова, заложенными в пьесе, что лишь обнажило катастрофическое несоответствие двух систем.
Анализ коррективов, сделанных А.С. Сувориным и Е.П. Карповым перед вторым представлением пьесы Чехова, свидетельствует о целенаправленной адаптации «Чайки» к канонам современной сцены. Сведение к минимуму лейтмотивной системы в характеристике героев, которая в традиционном исполнении выглядела как навязчивые текстовые повторы в репликах персонажей, минимизация незначащих, с точки зрения драматургического стереотипа, деталей в поведении героев, которые в авторской образной системе служили рельефному раскрытию того разлада, который происходит между внутренними стремлениями и реальной формой бытия, изменение полифонической роли сцены игры в лото в финале пьесы, и, наконец, корректировка финала, где Чехов почти символически свел три ключевые для разрешения конфликта фигуры (Сорина – «человека, который хотел...», человека, не способного найти гармонии с миром – Треплева и человека, взвалившего на себя «крест» земного бытия – Нины Заречной), - все эти коррективы существенно перестраивали первоначальную авторскую структуру пьесы. По сути дела на сцене Александринского театра пьеса Чехова постепенно обрела «центростремительную» конструкцию, сосредоточенную вокруг драмы главной героини – Нины Заречной. Характер акцентов и корректив финального монолога Нины, снятие повторов-проведений «монолога Мировой души» во втором действии свидетельствует о тенденции режиссёра и редактора романтизировать образ героини, преодолеть заземляющие, снижающие его детали, поэтизировать ее судьбу и жизненный выбор. Именно в таком, скорректированном виде, пьеса Чехова возымела, наконец, успех в Александринском театре. Таким образом, сработал «адаптационный механизм» императорской сцены, подстраивающий художественный мир автора-драматурга к архетипам александринской сцены. Однако, пережитая в 1896 году «эстетическая катастрофа» существенно «качнула» театр в сторону освоения новых эстетических структур. Театр в наступающем времени должен был пересмотреть саму структуру функционирующей системы театральной типологии.
В Четвертой главе «”ЧАЙКА” В ВОСПРИЯТИИ ЗРИТЕЛЕЙ И В ОЦЕНКАХ КРИТИКИ» рассматривается взаимодействие авторской драматургической структуры и спектакля с таким важным элементом театральной системы, как зритель, который помимо собственного индивидуально-субъективного восприятия одновременно сосуществует в поле театрально-эстетических установок, формулируемых и поддерживаемых той частью публики, которую составляют профессиональные театральные критики.
Первый раздел четвертой главы «Александринская “Чайка” 1896 года и стереотипы зрительского восприятия» посвящен изучению реакций публики императорской театра. На основе подробного сопоставительного исследования свидетельств очевидцев (эпистолярные источники, мемуары, материалы прессы) оказывается возможным реконструировать всю сложнейшую партитуру зрительских реакций «рокового» спектакля Александринского театра, которые позволяют выявить степень участия публики в формировании или разрушении художественных смыслов разыгрываемой пьесы. В ходе анализа используются воспоминания и свидетельства Л.А. Авиловой, И.Л. Леонтьева-Щеглова, Е.П. Карпова, Н.А. Лейкина, С.И. Смирновой-Сазоновой, А.С. Суворина, Ю.М. Юрьева, М.М. Читау, самого А.П. Чехова. Привлекаются и критически анализируются версии события, изложенные рецензентами на страницах газет (статьи Н.А. Селиванова, И.И. Ясинского, А.Р. Кугеля, И.Н. Потапенко, О.Н. Михайловой). Здесь в задачу автора входило обнаружение направленности и амплитуды колебаний зрительских реакций, балансирующих между способностью непредвзято считывать авторский текст и «скольжением» по поверхности уже знакомых и апробированных на образцовой сцене форм.
В первом разделе главы исследуется проблема функционирования спектакля как театрального события, конституирующего художественные смыслы действенной сценической структуры. На основе документальной научной реконструкции зрительского восприятия легендарного спектакля 17 октября 1896 года автор пытается раскрыть драматический сюжет столкновения стереотипов зрительского восприятия с новаторской действенной структурой чеховской пьесы. Привлекая обширные мемуарные, эпистолярные, документальные (кассовые книги, бенефисные листы) источники, а также свидетельства театральных рецензентов, анализируется состав зрительской аудитории и устанавливаются мотивации поведения различных групп зрителей. Оказывается, что ходячая легенда о бенефисной публике, по меньшей мере, не исчерпывает суть возникшей ситуации и представляет лишь одну сторону истолкования коллизии, исходящую из круга защитников Чехова. Она в значительной мере упрощает ситуацию, снижает силу поляризовавшихся в зрительном зале энергетических полей, на самом деле достаточно сильно заряженных. В ходе исследования удается выяснить, что в зале присутствовала весьма активная часть образованной интеллигентной публики, имевшая весьма негативное суждение о пьесе и хорошо с ней знакомая еще до премьеры. Именно она своим поведением и открыто высказываемым мнением провоцировала те или иные реакции зала, идейно дирижируя ими. Прослеживая реакции зала буквально по минутам и эпизодам пьесы, автор обнаруживает, как последовательно и методично зрительный зал разрушал семантику образного ряда пьесы, обессмысливая её и доказывая тем самым, что действенная структура чеховского произведения является ничем иным, как набором случайных, не стыкующихся друг с другом деталей. Превращая пьесу в самопародию, зрители по сути дела отказывали автору в праве на утверждение самостоятельной структуры, одухотворенной силой лирического индивидуального высказывания. Чеховская «Чайка» на премьере была лишена силы художественной заразительности, так как попирала стереотипы привычных схем восприятия, сбивала зрителей с толку, предлагая вместо узнаваемых схем оригинальные образные конструкции и ходы. Из анализа реакций абсолютно отчетливо видно, как в первых сценах зрители пытались применить привычные смысловые клише к образам «Чайки», а затем, сбитые с толку, постепенно приходили к агрессивному неприятию авторских «условий игры». Агрессия против автора выливалась в бурные дискуссии во время антрактов, в образование «партий», полемизирующих друг с другом. Многофокусное воспроизведение мнений и оценок зрителей позволяет выявить самостоятельный драматический «сюжет восприятия», постепенно оттеснивший на второй план саму чеховскую пьесу. Роль зрителей в этом театральном события становилась ведущей, что привело к эстетической катастрофе. А.П. Чехов точнее всех сформулировал суть этого «хепенинга», заявив о том, что «автор провалился»46. Проваливали именно автора, его право устанавливать законы восприятия, его право диктовать свою систему художественных и смысловых взаимосвязей взамен «жонглирования» готовыми схемами и привычными клише.
Второй раздел четвертой главы «Пьеса и спектакль в контексте театральной критики» посвящен анализу театрально-эстетической ситуации, сложившейся вокруг постановки чеховской пьесы в императорском театре. На основе анализа различных театрально-критических позиций рецензентов выявляются основное направление и полюса полемики не только относительно постановки конкретного произведения, но и относительно перспективы развития театральной системы в целом.
В этом разделе впервые в полном объеме анализируется вызванная провалом «Чайки» критическая полемика, развернувшаяся в прессе по поводу чеховской драматургии и современного театра. Эта полемика выходит далеко за рамки частного случая и раскрывает во всем масштабе суть происшедшей идейно-эстетической катастрофы в контексте театрального процесса конца XIX века. Характерно, что, начав с обсуждения премьеры, творчества и личности А.П. Чехова, критика постепенно, в ходе споров обратилась практически ко всем проблемам и элементам, составляющим театральную систему: репертуару, актерскому мастерству, постановочному искусству, театральной декорации, сценической технике, публике, собственно критике, проведя не только исторический экскурс, но и сравнительный анализ состояния дел, как в русском, так и в зарубежном театре. Один из ведущих театральных критиков А.Р. Кугель написал четыре статьи, в которых коснулся этих и иных вопросов, высказав своё мнение практически обо всех животрепещущих эстетических вопросах и противоречиях современного театрально-эстетического процесса47 Анализируя позиции противоположных идейно-эстетических партий, автор исследования приходит к выводу о том, что все критики сходятся в одном: они констатируют ситуацию, характеризующуюся разрушением единой системы эстетических координат, отсутствием «генерализирующей» идеи. И А.С. Суворину, и А.Р. Кугелю, находившимся по разные стороны баррикад в споре о современном театре, одинаково не хватило определенности чеховской позиции, характерности в трактовке персонажей. С позитивной или негативной оценкой критики признавали, что Чехов нарушил устоявшиеся социально-типологические схемы, персонифицирующие в конфликтном и сюжетном столкновении героев. Они подчеркивали «несанкционированное» вторжение жизни в пространство художественного произведения, размывающее координаты идейно-эстетической определенности и типичности. Именно в этом ключе следует трактовать все упреки в нарушении законов драмы (понятых достаточно догматически) и обвинения в подмене этих драматических законов принципами повествовательного искусства. Критики по инерции стремились «вписать» чеховское произведение в априори существовавший в их представлении «классификатор» эстетических ценностей, и выходило, что Чехов по природе своего таланта является беллетристом, а не драматургом, совершающим непростительные ошибки против театрально-драматургической системы. Лишь в отзыве Л.А. Авиловой, также склонной видеть «ошибки» Чехова в нарушении обыкновенных театральных правил, указывается на право автора устанавливать свои собственные эстетические законы48. Однако в связи с этим правом невольно встает другая серьезная проблема, также подлежащая анализу в этой главе – о взаимоотношении художника и публики, являющейся полноценным участником театрального события. Её роль в установлении и бытовании художественных смыслов драматургическо-театральной структуры является вполне очевидной. Если ряд театральных консерваторов, таких, как, например, Н.А. Селиванов, гневно обвиняли Чехова в пренебрежении публикой и её эстетическими предпочтениями и привычками49, то даже более близкие к писателю оппоненты, такие как И.И. Ясинский50, порицали его за предпочтение своего писательского «я» законам демократического большинства. Извечный вопрос – угождать публике или диктовать ей свои законы – в новых идейно-исторических координатах времени приобретал чисто эстетическое значение. Для одних вина Чехова заключалась в его идейной и художественной «аполитичности», нежелании примыкать к какому-либо лагерю или направлению, для других вопрос оборачивался нежеланием драматурга следовать по проторенной дороге зрительских стереотипов. Здесь же закономерно поднимается и вопрос о самих эстетических критериях, о роли критики в формировании художественных смыслов и направлений в искусстве. Вместе с тем попытки всерьез связать чеховскую драматическую структуру исключительно с декадентскими тенденциями, с «поэзией вырождения» (И. Гофштеттер51) на поверку выглядят натяжкой, ибо критика справедливо видит иронические ходы автора, отстраняющегося и от этого направления. Из анализируемых рецензий и проблемных статей выясняется, что сама система эстетических координат оказывается на поверку достаточно размытой и разрушенной. Здесь показательным является даже анализ сатирических публикаций и пародий, появившихся на страницах популярных изданий того времени. В пародиях и сатирах С. Уколова52, И. Рылова53 отсутствует четкая эстетическая позиция авторов, сосредоточивших свое внимание лишь на защите или порицании личности Чехова и его критиков или на «обыгрывании» самого скандала в театре. Характерна и другая черта, проявившаяся в публикациях о «конфликте в Александринке». Так «Антракты»54 и «Летучие заметки» Н.А. Лейкина55, опубликованные в «Петербургской газете», наследуя традиции гоголевского «Театрального разъезда», используют прием «театрализации» самого критического спора. Однако, в отличие от гоголевского произведения, в данном случае литературная форма лишь камуфлирует отсутствие эстетического критерия. Отсутствие единой шкалы ценностей – само по себе не является катастрофичным. В действительности художественный процесс рубежа XIX-XX веков обнаруживал кризис генерализирующих эстетических направлений, оборачиваясь множественностью и индивидуализацией автономных творческих систем. Нарождающаяся новая философия и эстетика уже вскоре, переосмыслив ситуацию, взамен философии общего дела, оправдания добра и софийности будет склоняться к апологии беспочвенности, к оправданию случайного и непредсказуемого. Столкновение же с разомкнутой, авторски индивидуальной структурой чеховской пьесы, очевидно требует иного подхода к проблеме актерского исполнительства. Этот вопрос также был поставлен тогда на повестку дня как один из острейших. А.Р. Кугель придерживался той точки зрения, что «спасение пьесы» лежит лишь в области «строгой характерности»56. Просчеты Е.П. Карпова он видел лишь в неумелом приноравливании персонажей пьесы к индивидуальным маскам-амплуа актеров. Несоответствие характеров этим маскам приводило, по мнению критика, к курьезным последствиям. По сути дела с этой точки зрения и оценивалась игра ведущих мастеров Александринского театра Н.Ф. Сазонова (Тригорин), Р.Б. Аполлонского (Треплев), М.И. Писарева (Дорн). Лишь В.Ф. Комиссаржевская, которой, несмотря на агрессивный прессинг публики премьерного спектакля, деструктурирующей своим поведением смысловые драматические ряды роли Нины Заречной, удалось всё же прорваться сквозь «железный занавес» враждебного остранения публики, сумела в ряде моментов донести до зрителей энергию личностного артистического «я». Именно в этом «одухотворении» видела наиболее проницательная часть критики прорыв за рамки предуказанной характерности и стереотипа. Победы этого «катастрофичного» спектакля, как явствует из оценок рецензентов, лежали в области проявления индивидуальных свойств актеров, воспринимающихся не привычным амплуа, а личностным самовыражением. Именно за проявление личных неповторимых свойств артистической индивидуальности хвалили рецензенты игру В.Н. Давыдова (Сорин) и К.А. Варламова (Шамраев), ставя их рядом с Комиссаржевской. Актерская индивидуальность, настроенная по камертону автора-драматурга, выступающая активным «соавтором» пьесы, создающая в каждом конкретном случае неповторимую действенно-сценическую структуру, невольно, подспудно, иногда вопреки декларируемым постулатам, становится мерилом оценки наиболее проницательных и чувствующих театр критиков. Именно с этой точки зрения оценивалась и работа режиссёра. Так А.С. Суворин, говоря об ошибках в мизансценах, по сути дела отмечал места, в которых Е.П. Карпов, поддаваясь постановочному шаблону, игнорировал авторскую сложность и многослойность в трактовке ситуаций и положений57. В ряде рецензий возникал разбор сценических эффектов, примененных императорской сценой при постановке чеховской пьесы (эффекты освещения, звуковая партитура), которые сравнивались с весьма изощренной и богатой палитрой художественных средств в спектаклях знаменитых российских антрепренеров, таких как Н. Синельников или Н. Соловцов. Из этого разбора следует, что эффекты сами по себе не имеют никакого значения, ибо важна их органическая связь с авторской атмосферой, создающейся в той или иной сцене спектакля. Таким образом, критика, вольно или невольно, по сути дела своими оценками подготавливала целостное восприятие спектакля как действенной структуры, настроенной по камертону автора и построенной каждый раз по своим неповторимым законам. Выясняется парадоксальная ситуация, в которой эстетические предощущения нового театра на страницах периодики по сути дела вступают в противоречие с агрессивно декларируемыми сентенциями и оценками и «ругателей» и «защитников» Чехова-драматурга.
В Пятой главе диссертации «РЕАБИЛИТАЦИЯ» ПЬЕС А.П. ЧЕХОВА НА АЛЕКСАНДРИНСКОЙ СЦЕНЕ И ДВИЖЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ» рассматриваются постановки чеховских пьес на александринской сцене после «катастрофы», случившейся с первой постановкой «Чайки». На основе анализа финансовых документов о сборах и авторском гонораре за постановку чеховских пьес, сравнения их с аналогичными документами наиболее репертуарных авторов, предпринята попытка обрисовать общую картину «проката» чеховских пьес в репертуаре Александринки в конце XIX – начале ХХ века.
В Первом разделе пятой главы «Спектакль Александринского театра «Иванов» (1897)» затронуты проблемы, связанные с настойчивым утверждением драматургии Чехова на александринской сцене после трагического инцидента с первой постановкой «Чайки». Здесь анализируются те уроки, которые вынес театр после провала, стремясь в своих новых спектаклях «реабилитировать» Чехова в стенах императорских театров, определяется место чеховской драматургии в репертуаре императорской сцены 1890-1900-х годов. Прежде всего, обращено внимание на то, что характер «проката» чеховских пьес ничем не отличался от других современных названий, присутствующих в афише.
Сравнительное изучение сборных ведомостей и репертуарных книг дирекции императорских театров показывает58, что даже в случае с чеховской «Чайкой» не прослеживается никакой экстраординарной ситуации. Пять спектаклей, сыгранных в октябре-ноябре 1896 года при полных залах, свидетельствуют о том, что пьеса имела вполне стабильный успех на последующих представлениях. Ничего экстраординарного не было и в том, что после пятого представления она была снята с репертуара (то же происходило почти со всеми современными пьесами). Исключение в данном случае составляли лишь «бестселлеры» – театральные сочинения А.И. Сумбатова-Южина, Вл.И. Немировича-Данченко, П.П. Гнедича, Е.П. Карпова, не говоря уже о пьесах В.А. Крылова. Так драма Вл.И. Немировича-Данченко «Цена жизни», поставленная тремя месяцами позже «Чайки», выдержала 15 представлений. Чехову еще предстояло войти в обойму репертуарных авторов.
Следует отметить, что никакого табу на постановки чеховской пьес на петербургской императорской сцене установлено не было. Активно продолжали идти его водевили, а в следующем сезоне Е.П. Карпов успешно возобновил «Иванова» (1897), частично изменив состав исполнителей. Между тем из самого выбора названий следует вывод о том, что Александринский театр обращается к Чехову в том случае, если находит принцип соответствия между формами его драматургии и своими готовыми сценическими формами. В своих водевилях А.П. Чехов сознательно «обыгрывал» классические сценические амплуа, а в «Иванове» – раннем драматургическом опусе писателя – был явно ощутим компромисс с достаточно привычной схемой современной драмы.
Во Втором разделе пятой главы «Реабилитация “Чайки”» анализируются гастрольный спектакль александринцев в Варшаве весной 1901 года и вторая постановка «Чайки» на александринской сцене, осуществленная в ноябре 1902 года М.Е. Дарским уже после знаменитых спектаклей МХТ.
Не известное до сих пор возобновление «Чайки» 1901 года во время гастролей александринцев в Варшаве при достаточно подробном изучении структуры этого спектакля (основанном на анализе ходового режиссёрского экземпляра) показывает, что театр уже решительно и однозначно «подверстывал» сценическую структуру действия к арсеналу своих типических художественных приемов, добиваясь этой «адаптацией» безусловного зрительского успеха.
Изучая пометки М.Е. Дарского, сохранившиеся в ходовом экземпляре Александринского театра, автор исследования стремится установить меру «притяжения» и «отталкивания» спектакля императорской сцены от признанной уже постановки Московского Художественного театра. Обращаясь к материалам театральной критики, оказывается возможным «позиционировать» поиски императорской сцены в новой эстетической ситуации начала ХХ века.
Открытия Московского Художественного театра, разрушившие постановочные и актерские клише казенной сцены, предложившие ей прямую оппозицию и ориентированные на иную модель действия и конфликта, оказали на искусство александринцев существенное влияние. В диссертации впервые подробно исследуется история так называемой «реабилитации» «Чайки», которая была предпринята по инициативе нового управляющего труппой П.П. Гнедича в начале 1900-х годов.59 Этот процесс, связанный с новым этапом постижения драматургии Чехова Александринским театром, рассматривается в контексте и динамике театрально-эстетического движения рубежа XIX-ХХ веков. В ходе исследования становится очевидным, что взамен безлично жанровой типологии на императорскую сцену приходит «авторская» и стилевая типология спектаклей. Являясь вместилищем многого и разного, казенная петербургская сцена пытается вобрать в арсенал своих постановочных средств, в том числе и новейшие театральные открытия, стилевые приемы, учитывать индивидуальную авторскую манеру драматических писателей. Приглашая к сотрудничеству режиссеров-мхатовцев А.А. Санина и М.Е. Дарского, директор императорских театров В.А. Теляковский пытался утвердить на александринской сцене некоторые стилевые принципы МХТ60. Однако главной тенденцией, проводимой П.П. Гнедичем, являлась забота о стилевом художественном единстве постановок, что само по себе подняло спектакли Александринского театра на новый эстетический уровень и сделало возможным творческое взаимодействие с различными авторскими системами61. В диссертации подробно анализируется режиссёрская работа М.Е. Дарского над текстом «Чайки» 62. Основываясь на анализе режиссёрских пометок и указаний постановщика, автор приходит к выводу о том, что Дарский достаточно формально ориентировался на опыт МХТ и лишь использовал его художественные приемы, всю широчайшую палитру наработанных МХТ средств, с помощью которой создавалась атмосфера различных сцен и эпизодов пьесы, виртуозно «вычерчивал» геометрию мизансцен и следил за музыкой пауз. Копируя спектакль МХТ, Дарский в то же время придал трактовке пьесы Чехова безусловную определенность, выдвинув вперед Треплева в исполнении Н.Н. Ходотова, чья жизненная драма определялась необходимостью сделать выбор между иллюзией и реальностью.
В диссертации подробно анализируется критическая полемика, развернувшаяся вокруг нового обращения александринцев к произведению А.П. Чехова. Особое значение приобретала здесь позиция новой символистской критики (З.Н.Гиппиус, Д.Н. Философов)63, ищущей плацдарм для утверждения принципов нового театра. Критики-символисты, отмечая существенное историческое отставание самой идеи «реабилитации» Чехова на императорской сцене в мхатовском ключе, вместе с тем критиковали и старый «жирный» жанризм александринских мастеров. Преображение искусства императорской сцены им виделось на путях обретения художественной стильности, ориентированной на эстетические миры различных эпох и авторских индивидуальностей, позволяющих, отрешившись до низведенного до «жанра» реализма, создать истинно духовный театр. С этой точки зрения, тотальное «жизнеподобие» спектаклей МХТ, их «ненужная правда» распространяется и на драматургию самого Чехова, почти отождествляется с ней. Однако ряд весьма проницательных критиков, таких как А.Р. Кугель и Ю.Д. Беляев64, справедливо ощущают, что Александринский театр движется лишь по форме «жизнеподобия», не делая его своим художественным методом. Петербургская императорская сцена усваивает авторский театр Чехова чисто стилистически, и, уходя от присущей ей типологии жанров и амплуа, переходит к своеобразной типологии стилей и творческих систем, открывая тем самым перспективу последующих художественных исканий.
В Заключении диссертации подводятся итоги исследования.
История александринской «Чайки» – это своеобразный сюжет театрально-эстетической драмы, обнажившей механизмы перехода от одной художественной системы к другой. Ее героем был, в первую очередь, сам автор, вознамерившийся сразиться со всей многоуровневой системой театральных условностей, со стереотипами и установками зрительского восприятия, с разноголосицей представителей различных эстетических партий и критических установок.
В диссертации прослеживается движение Чехова от старательного ученичества драматурга-неофита, искренне пытающегося постигнуть секреты сценичности и драматургического ремесла к стихийному новаторству, которое со стороны экспертов-ремесленников сначала объяснялось вполне простительными ошибками новичка, а затем стало вызывать все нарастающее раздражение и неприятие.
Шесть лет, с 1896 по 1902 год, явились для Александринского театра временем, когда происходила творческая «перестройка» всех элементов спектакля, когда от жестко детерминированной и безличной системы жанров и амплуа театр в рамках присущей ему традиции переходил к системе художественной определенности спектаклей, когда собирательность искусства александринцев на новом этапе переосмысливалась не на механистическом монтировочном уровне (что в отличие от «ансамблевости» искусства Малого театра, собственно говоря, и определяло специфику александринского спектакля на протяжении XIX века), а на уровне стилевого единства отдельных спектаклей, сосуществующих (или эклектично сочетающихся) в рамках общей «репертуарной сетки».
Впервые столкнувшись с демонстративно индивидуализированной, авторской драматургической и стилевой структурой при постановке чеховской «Чайки», Александринский театр, сначала попытался пойти ей навстречу, но в итоге отказался подчиниться авторской воле и под влиянием зрительских реакций и атаки театральной прессы стал активно адаптировать пьесу к привычным формам драматического спектакля. Именно на этом пути театр попытался достичь компромисса, добиться некоторого успеха на последующих после скандальной премьеры представлениях.
Провалив на своей сцене «авторский театр», Александринка под влиянием сложившейся кризисной ситуации активизировала поиск «новых форм» искусства. Этот поиск шел по пути значительной эстетической работы, связанной с «окультуриванием» грубоватого лубочного и разнохарактерного искусства «первачей» Александринки, попыткой обретения стилевого единства спектаклей. В этом отношении большое значение приобрела деятельность П.П. Гнедича на посту руководителя драматической труппы. Он был сторонником утверждения художественного подхода к постановке драматургических произведений. На рубеже веков в Александринском театре предпринимается попытка утвердить принцип стилевой определенности спектаклей. Эту тенденцию в начале ХХ века активно поддержал и развил директор императорских театров В.А. Теляковский, много сделавший для утверждения так называемого «режиссерского» направления на александринской сцене. И хотя деятельность приглашенных в театр на режиссерские должности М.Е. Дарского, А.А. Санина и Ю.Э. Озаровского не привела к революционным переменам в сфере театральной образности, она может рассматриваться как некий принципиальный шаг на пути к модернизации традиционной российской сцены. В этом отношении «реабилитация» «Чайки» на петербургской императорской сцене, осуществленная М.Е. Дарским в 1902 году, была первым шагом на длинном и противоречивом пути к обновлению искусства александринцев.
Столкновение новаторских драматических структур пьес А.П. Чехова с условностями старого театра, стереотипами зрительского восприятия и установившимися канонами театральной критики, обнаруживает двухсторонний конфликтный процесс. С одной стороны, консервативная сценическая система претерпевала изменения, с другой – происходила эволюция самого Чехова-писателя в направлении от «стихийного» новаторства в области драматургической формы к формированию отчетливой театрально-эстетической позиции.
В самой структуре произведений «новой драмы», выдвинувшейся на подмостки европейской сцены во второй половине XIX века, формировалась совершенно новая природа сценических взаимодействий, требующая реформы не только театрального языка или отдельных элементов старой театральной системы, но и всей совокупности, слагающих её частей.
Взамен театру, лишенному самого принципа художественной целостности, приходил театр с четко организованной, подчиненной единой воле структурой. Дело заключалось в самой трансформации понятия целостности. Взамен безличного, диктуемого архетипической доминантой, единства, на сцене утверждалась структура, подвластная и заданная единой творческой волей, персонифицированной в художественной личности творца-автора. Если доселе в практике русского театра автор со своим произведением обыкновенно встраивался, вмонтировался, адаптировался к господствовавшей в репертуаре системе жанров и архетипов (которой, впрочем, были всецело подчинены и сам репертуар, и актеры, и зрители, и критики), то теперь властное желание автора иметь «свой театр» диктовало и провоцировало острые конфликты, заряжало энергией противоречий процесс взаимодействия сугубо авторских структур и системой архетипической.
Конструирование сценического образа оказывалось во власти не только актеров и режиссёра, но и во власти зрителей с их эстетическими установками, и во власти критиков, позиционирующих новаторское произведение в системе функционирующих и конституированных архетипов сцены. Премьера чеховской «Чайки» в Александринском театре продемонстрировала, как старая театральная система агрессивно деструктурировала систему художественных смыслов, заложенных автором, и, тем самым, реализовывала потенциально заложенный в сюжете пьесы драматический конфликт «старых» и «новых» форм.
Александринская сцена, пойдя по пути адаптации авторской структуры к системе присущих ей архетипов, вместе с тем добилась известного рода «баланса» традиций и новаторства в спектакле, на последующих представлениях достаточно благосклонно принятых зрителями. С другой стороны, сам Чехов, отточив театральные свойства своей пьесы для знаменитой постановки в МХТ, принесшей ему всемирную славу, представил уже несколько иной вариант, отказавшись от многих кажущихся его современникам необязательными деталей, во имя принципиальных открытий.
Рождение новых принципов «авторского театра» вместе с тем не отменяло перспектив развития системы «театра архетипов», которая существовала в русском театре испокон века. Эта система на новом историческом витке обнаружила в себе резервы модернизации. В ней открылись возможности «включения» в свою орбиту многообразия стилизуемых «авторских систем». Так называемая «реабилитация» чеховской «Чайки» на александринской сцене, постановка здесь практически всех пьес драматурга в начале ХХ века свидетельствовала о том, что «авторские системы» индивидуализированных типов театра поглощались, стилизовались и втягивались в систему «театра архетипов», создавая своеобразный историко-культурный «каталог систем» внутри традиционной модели, оперирующей всем многообразием театральной типологии. Именно на пути стилевого единства отдельных спектаклей и могло происходить постижение поэтики чеховского театра на александринской сцене.
Принципиально важными и актуальными представляются перспективы комплексного изучения спектакля как театрально-эстетического события, отражающего и воплощающего в себе динамику и перипетии движения и смены театральных систем. При этом автор подчеркивает стремление уходить в своем исследовании от сугубо оценочного подхода к явлениям нового или традиционного театра, обнаруживая и раскрывая возможности и специфику разных художественных методов.
Вспоминая в 1930-х годах Александринский театр начала ХХ века, Л.С. Вивьен в своей программной речи говорил о «лице театра», о том, что «золотой век» искусства александринцев характеризовался своеобразным сосуществованием на одной сцене различных стилей и направлений (от Всеволода Мейерхольда до Евтихия Карпова), объединенных признанием главенствующей силы актерского мастерства и в рамках отдельных спектаклей создающих стилистически выдержанные художественные структуры65. Иными словами, руководитель Александринки фактически признавал, что от главенства жанровых архетипов театр в эпоху рождения режиссерского театра перешел к своеобразной, говоря современным языком, полистилистике. Опыт же работы над чеховской драматургией на рубеже XIX-XX веков заставил Александринский театр более внимательно и осмысленно подходить к образной системе и стилю автора. И хотя чеховские спектакли Александринского театра вызывали активные споры, театральный обозреватель газеты «Речь» в 1905 году в рецензии на постановку «Вишневого сада» констатировал: «Круг завершен. Театр Чехова целиком приобщен, наконец, к Александринской сцене»66. Обзор александринской чеховианы 1900-1910-х годов, по преимуществу спектаклей Ю.Э. Озаровского («Вишневый сад», «Три сестры»), свидетельствует о том, что петербургская императорская сцена постепенно делает Чехова своим репертуарным автором, находя свой оригинальный подход к образному миру драматурга.
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:
Монографии:
1. Чепуров А.А. Александринская «Чайка» СПб.: Балтийские сезоны, 2002. 352 с. 29 п.л.
2. Чепуров А.А. А.П. Чехов и Александринский театр. 15 п.л. (В печати).
Статьи:
1. Чепуров А.А. Сверхсюжет спектакля // Спектакль как предмет научного изучения. СПб.: СПГАТИ, 1993. С. 53-55. 0,3 п.л.
2. Чепуров А.А. Театр в системе драматических отношений (личность художника и метасистема)/ Художник: профессия и призвание. Материалы научно-практической конференции. СПб., 1994. С. 35-37. 0,4 п.л.
3. Чепуров А.А. Театр-режиссёр // Александринский – Пушкинский – Александринский. СПб.: Арсис, 1995. С. 37-40. 0,6 п.л.
4. Чепуров А.А. Открытие Александринского театра и берлинские художники братья К. и Ф. Гропиусы // Театральная жизнь Петербурга в контексте европейской культуры XVIII-XX вв.: Материалы научно-практической конференции. СПб.: СПГАТИ, 1996. С. 24-26. 0,3 п.л.
5. Чепуров А.А. Режиссёрский экземпляр комедии А.П. Чехова «Чайка». Александринский театр 1896-1902 // Полет «Чайки»: Тезисы Международной Чеховской конференции. СПб., 1996. С. 34-36. 0,25 п.л.
6. Чепуров А.А. Загадка режиссёрского экземпляра «Чайки» // Театральная жизнь. 1997. № 2. С. 36-39. 0,5 п.л.
7. Чепуров А.А. «Чайка» в Александринке // Альманах Мелихово. Мелихово, 1998. С. 13-14. 0, 25 п.л.
8. Чепуров А.А. Александринский архетип // Театр и город: Сборник статей. М.: Наука, 1998. С. 107-112. 0,7 п.л.
9. Чепуров А.А. Театральная школа и петербургские молодые труппы XIX века // Театральная жизнь: взаимосвязи во времени и пространстве: Материалы научно-практической конференции. СПб.: СПГАТИ, 1998. С. 113-116. 0, 3 п.л.
10. Чепуров А.А. Библиотека Александринского театра // Театральная жизнь, 1998. № 5-6. С. 21-22. 0,4 п.л.
11. Чепуров А.А., Лапкина Г.А.. Спектакль как предмет научного изучения // Границы спектакля: Сборник статей. СПб.: СПГАТИ, 1999. С. 31-36. 0,5 п.л.
12. Чепуров А.А. Театр-Академия-Книга // Театральная жизнь. 1999. № 9. С. 27-28. 0,3 п.л.
13. Чепуров А.А. «Чтобы источники не иссякли!» // Альтшуллер А.Я.
А.П. Чехов в актерском кругу. СПб.: Балтийские сезоны, 2000. С. 213-215. 0,4 п.л.
14. Чепуров А.А. Драма в диаграммах // Театральная жизнь. 2001. № 2. С.25-27. 0,5 п.л.
15. Чепуров А.А. Мизансцены на музыке // Мейерхольд: Режиссура в перспективе века: Материалы симпозиума критиков и историков театра. Париж, 2-12 ноября 2000 г. Выпуск первый. М.: О.Г.И., 2001. С. 357-367. 0,8 п.л.
16. Чепуров А.А. Театр мастеров // Театральная жизнь. 2002, № 1. 0,5 п.л.
17. Чепуров А.А. Вступая в диалог... // Театроведы Израиля размышляют: Сборник статей. СПб.: Балтийские сезоны, 2002. – Вступительная статья. С. 6-8. 0, 4 п.л.
18. Чепуров А.А. Двадцать четвертая драма Шекспира... // Театральная жизнь. 2002. № 4. С. 46. 0,3 п.л.
19. Чепуров А.А. Режиссер: человек-структура // Театральная жизнь. 2004. № 6. C. 46-50. 0,8 п.л.
20. Чепуров А.А. Реабилитация «Чайки» //Театральная жизнь. 2005, № 2005. № 6. C. 55-61. 1 п.л.
21. Чепуров А.А. Судьба Александринки // Театральная жизнь. 2006. № 3. С. 1-9. 1,2 п.л.
22. Чепуров А.А. Театр государства российского // Александринский театр: 1756-2006. Театр прославленных мастеров. СПб.: Артдеко, 2006. C. 17-29. 1,5 п.л.
23. Chеpurov A.A. Drama as the method of theatre research // Performance Past and Present: Current trends in Theatre Research. Moscow, 1994. P. 48-49. 0, 25 п.л.
24. Chеpurov A.A. Actor in the circle of dramatic collisions // L’acteur, l’actrice en scene. Montreal: University of Quebec, 1995. P. 261-262. 0, 25 п.л.
25. Chеpurov A.A. Theatre and Metadrama // Theatre and Holy Scriptures. Tel-Aviv, 1996. P. 54-55. 0,3 п.л.
26. Chеpurov A.A. Theatre and space // Theatre and text. Copenhagen: University of Copenhagen, 1996. P.17- 21. 0,5 п.л.
27. Chеpurov A.A. The theft of Happiness // European drama review. Oxford. 2001. Vol. 11. P. 36-42. 1 п.л.
28. Chеpurov A.A. The play with the cultural context // Theatre and cultural memory. Amsterdam, 2002. P. 38. 0,4 п.л.
29. Chеpurov A.A. Theatre system and Mise ?n scene // Erika Fischer-Lichte. Festchrift. Berlin: Theater der Zeit, 2003. P. 154-161. 0,7 п.л.
Сноски:
1 См.: Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство. 1898-1907. М., 1989. С. 14.
2 См.: Рудницкий К.Л. Режиссерская партитура К. С. Станиславского и «Чайка» на сцене МХТ в 1898 году // Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского: В 6 т. М., 1981. Т. 2. С. 8.
3 См.: Карпов Е.П. История первого представления «Чайки» в Александринском театре 17 октября 1896 года //
Вера Федоровна Комиссаржевская. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964. С. 245.
4 См.: Юрьев Ю.М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963. Т. 2. С. 41-57.
5 См.: Балухатый С. Д. Чехов-драматург. Л., 1936; Балухатый С. Д. «Чайка» в Московском Художественном театре // « Чайка» в постановке Московского Художественного театра. Режиссерская партитура К. С. Станиславского. М., 1938.
6 См.: Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1984; Немирович-Данченко Вл.И. Рождение театра. М., 1989.
7 См.: Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского: В 6 т. М., 1980-1988.
8 См.: Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2 т. Л., 1980; Эфрос А.В. Репетиция – любовь моя. М., 1993;
Брук П. Пустое пространство. М.,1978; Стреллер Дж. Театр для людей. М., 1984.
9 См.: Строева М.Н. Чехов и Художественный театр. М., 1959; Соловьева И.Н. Немирович-Данченко. М., 1979; Марков П.А. В Художественном театре. Книга завлита. М. 1979, Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство. 1898-1907. М., 1989.
10 См.: Скафтымов А.П. К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова // Скафтымов А. П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958; Берковский Н.Я. Чехов: От рассказов и повестей к драматургии // Берковский Н. Я. Литература и театр. М., 1969; Паперный З.С. Единое слово. М.,1983; Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
11 Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М., 1971. С. 279.
12 Там же.
13. Там же.
14 Полоцкая Э. А. «Чайка» и «Одинокие» (Судьба «одиноких» у Чехова и Гауптмана // Чеховиана: Полет «Чайки». М., 2001. С. 119.
15 См.: Шах-Азизова Т.К. Усмешка «Чайки» // Чеховиана: Полет «Чайки». М., 2001. С. 277.
16 См.: Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. М., 1989. С.201
17 См.: Берковский Н.Я. . Чехов: От рассказов и повестей к драматургии // Берковский Н. Я. Литература и театр. М., 1969. С. 182.
18 Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988. С. 304.
19 Cм.: Костелянец Б.О. Чеховские катастрофы // Чехов и театральное искусство. Л., 1985.
20 См.: Паперный З.Я. Единое слово. М.,1983; Лакшин В.Я. Провал // Театр, 1987, № 4.; Кузичева А.П. Две премьеры Александринского театра «Ревизор» Н. В. Гоголя и «Чайка» А. П. Чехова ) // Чеховиана: Полет «Чайки». М., 2001; Гульченко В. В. Треплев-декадент // Чеховиана: Полет «Чайки». М., 2001; Волчкевич М. «Чайка». Комедия заблуждений. М., 2005.
21 См. Кириллова И.В. Новая драма в русском театре домхатовского периода. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. иск. Л., 1990; Уварова И.Н. «Смеется в каждой кукле чародей». М., 2003.
22 Кузичева А.П. Две премьеры Александринского театра («Ревизор» Н. В. Гоголя и «Чайка» А. П. Чехова) // Чеховиана: Полет «Чайки». М., 2001. С. 50.
23 В Мелихово, Москве и Санкт-Петербурге прошли научные конференции и фестивали, посвященные столетию «Чайки». Был выпушен специальный том «Чеховианы»: Чеховиана: Полет «Чайки». М.: Наука, 2001.
24 Альтшуллер А.Я. А.П. Чехов в актерском кругу. СПб., 2001. С. 95.
25 Альтшуллер А.Я. А.П. Чехов в актерском кругу. СПб., 2001. С. 95.
26 См.: Дубнова Е Я. Театральное рождение «Чайки» (Петербург – Харьков) // Чеховиана: Мелиховские труды и дни. М., 1995.
27 См.: Кузичева А.П. Ваш А. Чехов. М., 1994.
28 См.: Кузичева А. П. А.П. Чехов в театральной критике. Комментированная антология. 1887–1917. М., 1999.
29 Барбой Ю. М. О направлениях искусствоведческого анализа спектакля // Границы спектакля. СПб.,1999. С. 14.
30 См.: Балухатый С. Д. «Чайка» в Московском Художественном театре // «Чайка» в постановке МХТ. Режиссерская партитура К. С. Станиславского. Л.; М., 1938.
31 См.: Владимиров С. В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. Л., 1976. С. 13–60.
32 См.: Реконструкция старинного спектакля. М., 1990.
33 См.: Theatrical event: Borders. Dynamics. Frames. Amsterdam; New York, 2004
34 Подробно о театральных реформах 1880-х годов писал А.А. Пилюгин. См.: Пилюгин А.А. Реформы в императорских театрах. 1882 год. Из истории организации творческого процесса в русском театре. М., 2003.
35 Анализ основан на текстологическом изучении ходового экземпляра Александринского театра пьесы «Иванов» (CПб.ТБ, ОР и РК, № 12754) и монтировки спектакля (РГИА, ф. 497, оп. 8, д. 428).
36 [Письмо А. П. Чехова – А.С. Суворину от 2 ноября 1895 г.] // Чехов А.П. ПССП: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1978. Т. 6. С. 89.
37 [Письмо А. П. Чехова – Ф.О. Шехтелю от 15 февраля 1896 г.] // Чехов А. П. ПССП: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1978. Т. 6. С.122.
38 [Письмо А. П. Чехова – А. С. Суворину от 2 ноября 1895 г.] // Чехов А.П. ПССП: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1978. Т. 6. С. 89.
39 В ходе анализа используется цензурный экземпляр пьесы А.П. Чехова «Чайка», хранящийся в собрании Санкт-Петербургской театральной библиотеки (СПб ТБ. ОР и РК. № 12129).
40 См: Протокол № 31 заседания Театрально-литературного комитета (Санкт-Петербургское отделение) от 14 сентября 1896 г. // РГИА, ф. 497, оп. 8, д. 442.
41 В работе подробно анализируется монтировка пьесы А.П. Чехова «Чайка» в Александринском театре (РГИА, ф. 497, оп. 8., д. 577)
42 См.: Юрьев Ю.М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963. Т. 1. С. 151.
43 См.: [Ходовой экземпляр комедии А.П. Чехова «Чайка»] // СПб. ТБ. ОР и РК. № 22454.
44 См.: Балухатый С. Д. «Чайка» в Московском Художественном театре // « Чайка» в постановке Московского Художественного театра. Режиссерская партитура К. С. Станиславского. М., 1938.
45 См.: Чехов А.П. Чайка. Комедия в четырех действиях // Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского: В 6 т. M., 1981. Т. 2. C. 51-166.
46 См.: Карпов Е. П. История первого представления «Чайки» в Александринском театре 17 октября 1896 года // Вера Федоровна Комиссаржевская. Письма актрисы, Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964. C. 245.
47 См.: Homo novus [Кугель А.Р.] Театральное эхо. Александринский театр. Бенефис г-жи Левкеевой. «Чайка», ком. в 4 д. Ант. Чехова. // Петербургская газета. 1896. 18 окт.; Homo novus[ Кугель А.Р.]. «Чайка» // Петербургская газета. 1896. 19 окт.; Homo novus [Кугель А.Р.]. Новые формы / Фельетон «Петербургской Газеты» // Петербургская газета. 1896. 20 окт.; Homo novus [Кугель А.Р.] О Театральной критике // Петербургская газета. 1896. 23 окт.
48 См.: Л. А-ва [Авилова Л.А.] О «Чайке» Г. Чехова // Петербургская газета. 1896. 20 окт.
49 См.: Селиванов Н.А. Александринский театр. Чайка // Новости и Биржевая газета.1896.19 окт.
50 См.: Ясинский И.И. Листок. Чеховская «Чайка» // Биржевые ведомости. 1896. 20 окт.
51 См.: Гофштеттер И. А. Письмо в редакцию (По поводу «Чайки» г. Чехова) // Санкт-Петербургские ведомости. 1896. 27 окт.
52 См.: Бедный Ионафан [Уколов С. Я.] Чайка. Фантастически-сумасшедшие сцены с прологом, эпилогом, белибердою и провалом // Петербургский листок. 1896. 20 окт.
53 См.: К. Рылов [Соколов А. А.] «Чайка» или Подлог на Александринской сцене. (Комедия в 2-х выстрелах и 3-х недоразумениях) / Театральные новинки "Петербургской газеты" // Петербургская газета. 1896. 23 окт.
54 См.: [Без подписи] Антракты. Александинский театр // Петербургская газета, 1896, 18 окт.
55 См.: Лейкин Н.А. Летучие заметки // Петербургская газета. 1896. 18, 19 окт.
56 Homo novus [Кугель А.Р.] Театральное эхо. Александринский театр. Бенефис г-жи Левкеевой. «Чайка», ком. в 4 д. Ант. Чехова. // Петербургская газета. 1896. 18 окт
57 См.: Суворин А.С. Театр и музыка // Новое время. 1896. 19 окт.
58 См.: Сборная ведомость с бенефиса Е.И. Левкеевой 17 октября 1896 года // РГИА, ф. 497, оп. 5, д. 1781. Л.45.; Книга сборов Александринского театра за 1896 год // РГИА, ф. 497, оп. 4, д. 3426. Л. 15-18.
59 См.: Гнедич П. П. «Чайка» г. Ан. Чехова // Новое время. 1899. 18 янв.
60 См.: Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965. С. 237.
61 См.: Гнедич П. П. Книга жизни. Л., 1929. С. 158.
62 Анализируется слой пометок, связанный со спектаклем 1902 года в ходовом экземпляре Алксандринского театра (СПб. ТБ. ОР и РК. № 22454).
63 См.: Х. [Гиппиус З. Н.] Александринский театр / Театр и музыка // Новости и Биржевая газета. 1902. 17 нояб.; Философов Д. В. Чайка / Театральные заметки. // Мир искусства. 1902. № 11. С. 25.
64 См.: Homo novus [Кугель А.Р.] «Чайка» А. П. Чехова / Александринский театр / Театральное эхо // Петербургская газета. 1902. 16 нояб.; Беляев Ю.Д. Театр и музыка // Новое время. 1902. 17 нояб.
65 См.: Протокол № 3 заседания художественного совета Госдрамы от 26 мая 1936 года. // Музей РГАТД им. Пушкина. Рук. фонд. № 572. С. 8.
66 Л. Вас-iй [Василевский Л.М.]. «Три сестры» /Александринский театр // Речь. 1910. 19 сент.