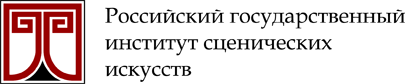Диссертация
Клейман Ю.А. ТЕАТР ЮДЖИНА О’НИЛА И АМЕРИКАНСКАЯ РЕЖИССУРА 1920-1930-х гг.
Клейман Юлия Анатольевна
ТЕАТР ЮДЖИНА О’НИЛА И АМЕРИКАНСКАЯ РЕЖИССУРА 1920-1930-х гг.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
Специальность 17.00.01 – Театральное искусство
Работа выполнена на кафедре зарубежного искусства Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства»
Научный руководитель – кандидат искусствоведения Цимбал Ирина Сергеевна
Официальные оппоненты: доктор искусствоведения Ступников Игорь Васильевич, кандидат искусствоведения Громов Николай Николаевич
Ведущая организация: ФГОУ ВПО «Российская академия театрального искусства – ГИТИС»
Защита состоялась 11 ноября 2010 г. в 15 час. на заседании Диссертационного совета Д. 210.017.01 в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства по адресу: 191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 35, ауд. 512.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии (Моховая ул., д. 34)
Ученый секретарь Диссертационного совета кандидат искусствоведения Некрасова И.А.
Рождение искусства режиссуры, сопоставимого по широте творческих поисков с европейским, в США пришлось на 1920-е гг. – время небывалого расцвета театра. За 1910-е гг. в США был преодолен культурологический разрыв с Европой, чему во многом способствовали европейские гастролеры, поездки американских театральных деятелей в Европу и распространение в Америке новых европейских философских идей и эстетических теорий. Новое понимание задач театрального искусства привело к появлению независимых любительских театральных коллективов – «малых театров», познакомивших Америку с новой драмой.
На 1920-30-е гг. приходится деятельность американских режиссеров-экспериментаторов, ориентировавшихся на достижения европейского театра. В это же время своего расцвета достигла американская сценография. Художники и первые американские теоретики сценографии являлись такими же полноправными авторами спектаклей, как и режиссеры, с которыми они сотрудничали.
Центральной фигурой театрального процесса 1920-30-х гг. стал Юджин О’Нил (1888–1953), благодаря которому в США не только появилась собственная новая драма, но и на ее основе были созданы яркие, самобытные спектакли. Вклад режиссеров Джеймса Лайта (1895–1964) и Филипа Мёллера (1880–1958) в историю американского театра оказался связан, прежде всего, с их сценической интерпретацией произведений О’Нила. Невозможно изъять имя О’Нила и из творческой биографии знаменитых сценографов Ли Симонсона (1888–1967) и Роберта-Эдмонда Джонса (1887–1954).
Специфическим свойством работы О’Нила-драматурга была необходимость немедленной сценической апробации каждой его новой пьесы, которая давала ему импульс к дальнейшим экспериментам с драматической формой. Эволюция его драматургии 1920-1930-х гг. закономерно может быть рассмотрена в неразрывной связи с премьерными постановками, как правило, осуществлявшимися при его непосредственном участии. О’Нил не мыслил себя вне театра: расставаясь с одним театральным коллективом, он активно вовлекался в работу другого. «Интенсивно используя возможности сотрудничества с театром, я чувствую, что, в конце концов, выиграл свою собственную технику»1, – писал драматург в 1929 г.
Театральная концепция, которую пытался осуществить О’Нил, не была им оформлена в сколько-нибудь развернутый текст, но по мере участия драматурга в реальном театральном процессе она становилась все более отчетливой: логика его взаимодействия с тем или иным режиссером оказывалась не случайной. То, к чему стремился О’Нил, было попыткой выразить древнегреческий трагизм. Но для осуществления этой концепции, как это ни парадоксально, и открытие О’Нилом выразительных возможностей сниженного языка (то, с чего началась его театральная деятельность), и экспрессионистские опыты 1920-х гг. оказались чрезвычайно полезны.
Осознавая неготовность современного ему театра в полной мере отразить сложную поэтику его пьес, О’Нил настойчиво продолжал борьбу с театральной рутиной. Живо откликаясь на те или иные актерские удачи, драматург искал не отдельных актеров, а именно режиссера, способного прочитать его пьесы на нескольких уровнях и добиться с помощью актеров их целостного воплощения.
Начиная с сотрудничества с «малым» театром «Провинстаун плейерс», где были поставлены его первые пьесы и заканчивая работой над пьесами 1927-1933 гг. в театре «Гилд» – одном из наиболее значительных театров в истории американского сценического искусства – О’Нил активно вовлекался в работу над постановками своей драматургии. Он сам выбирал актеров и режиссеров, рисовал эскизы будущего оформления, присутствовал на репетициях спектаклей, по просьбе режиссеров вносил в пьесы сокращения, наконец, анализировал удачи и неудачи работы в письмах, адресованных видным театральным деятелям его эпохи.
Анализ премьерных постановок о’ниловской драматургии 1920-30-х гг., предпринятый в диссертации, показывает, как при участии драматурга воплощалась в жизнь его театральная концепция, требовавшая от режиссеров, сценографов и актеров выполнения совершенно новых для молодого американского театра, сложных и глубоко содержательных задач.
Цель исследования: выявление театральной концепции Юджина О’Нила в ее связи с развитием искусства режиссуры США в 1920-30-е гг.
Задачи исследования:
-
проанализировать драматургию Юджина О’Нила с точки зрения наличия в ней режиссерских идей;
-
реконструировать и проанализировать премьерные постановки драматургии О’Нила 1920-30-х гг.;
-
исследовать методологию и стилистические особенности творчества режиссеров и сценографов, сотрудничавших с Юджином О’Нилом;
-
определить роль теоретической и практической деятельности Юджина О’Нила в развитии искусства американской режиссуры.
Тема диссертации представляется актуальной, поскольку драматургия О’Нила долгое время изучалась в отрыве от истории американского сценического искусства. Восполняя этот пробел, данная работа предлагает интерпретаторам О’Нила историю режиссерских прочтений пьес, отвечавших эстетическим установкам драматурга. Не только философская глубина драматургии О’Нила, но и заложенные в ней новации в области театральной формы неожиданно остро актуализируются сегодня.
Научная новизна исследования определяется тем, что в нем творчество Юджина О’Нила 1920-30-х гг. впервые рассматривается как комплексное явление, включающее в себя и драматургию, и теоретические идеи, и их практическое воплощение. Впервые выявляется непосредственное влияние деятельности О’Нила на развитие искусства режиссуры и сценографии США.
Объект исследования – история американского театра и театральной мысли первой трети XX века.
Предмет исследования: американские премьерные постановки пьес О’Нила с 1920 по 1934 гг.
Материалом исследования стали 1) пьесы, письма и статьи Юджина О’Нила 1920–1930-х гг.; 2) американские газетные и журнальные рецензии на спектакли 1920-30-х гг.; 3) теоретические работы сценографов Р.-Э. Джонса и Л. Симонсона, режиссера А. Хопкинса; 4) режиссерские экземпляры пьес и другие материалы премьерных постановок пьес О’Нила из архива библиотеки Йельского университета США.
Методология исследования. Диссертационное исследование основано на выработанных отечественной театроведческой школой принципах историзма, включающих разнообразный контекст – историю американского, русского и западноевропейского театра первой трети XX века, историю театрально-эстетической мысли, принципы изучения и анализа драмы и спектакля. Работа опирается на традиции ленинградской (гвоздевской) школы театроведения и исследования Ю.М. Барбоя, Б.О. Костелянца, Э. Бентли2, Г.В. Титовой, П.П. Громова3.
Теоретическую базу исследования составили научные труды о формировании режиссуры и принципов действенной сценографии таких ученых, как Т.И. Бачелис, В.И. Березкин, А.А. Гвоздев, Л.И. Гительман, Н.Н. Громов, В.И. Максимов4; посвященные экспрессионизму историко-театральные сочинения отечественных и зарубежных авторов – К. Иннеса, Г.В. Макаровой, Л. Ришара, Е.И. Струтинской5; исследования, посвященные изучению роли в искусстве XX века таких феноменов, как миф – работы Е.М. Мелетинского и Т. Портера6 – и маска – работы М.М. Молодцовой, Е.Г. Хайченко, Р.К. Шуттинг7.
Литература вопроса.
Творчеству О’Нила в целом в отечественном театроведении посвящена лишь одна монография – «Творчество Юджина О’Нила и пути американской драмы» филолога М.М. Кореневой8, в которой автор в контексте истории драматургии США последовательно рассматривает содержание и стилистические особенности всех пьес О’Нила, оставляя практически без внимания связь драматурга с театром его времени. Драматургия О’Нила изучена в отечественном театроведении достаточно широко. Интересный и глубокий анализ его пьес содержится как в специальных театроведческих работах А.А. Аникста, И.С. Цимбал, Ю.Г. Фридштейна9, так и в филологических изысканиях Г.П. Злобина, С.М. Пинаева, А.С. Ромм, В.Б. Шаминой10, и др. Однако творчество Юджина О’Нила рассматривается в данных работах вне истории их сценического прочтения.
Несмотря на значительность феномена американской режиссуры 1920– 30-х гг., в отечественном театроведении он остается фактически неизученным: на русском языке нет ни одной работы, целиком посвященной этой проблеме. Не существует монографического исследования, посвященного и такому важнейшему явлению американского театрального искусства, как театр «Гилд». Фундаментальным исследованием по истории американского театра является труд Б.А. Смирнова «Театр США XX века»11, но в нем имеется ряд неточностей. Диссертация позволяет дополнить и имеющие обзорный характер статью К.А. Гладышевой «Театр Соединенных Штатов Америки»12 учебника «История зарубежного театра» и статью И.В. Ступникова и Е.Н. Любимовой «Сценическое искусство США»13 в восьмитомнике «История западноевропейского театра».
Американское искусство данного периода традиционно причисляли к однозначно реалистическому (подражателям МХТ) как советские исследователи (К.А. Гладышева, Б.А. Смирнов, Н.Н. Сибиряков14 и др.), так и современные (М.Е. Швыдкой15). Развитие американского театра виделось перечисленным исследователям как последовательное утверждение реализма на сцене, что значительно упрощает и даже искажает историю американского театра, поскольку участники «малых театров» как раз стремились избежать «реализма», который для них ассоциировался с бродвейскими постановками мелодрам, где копирование действительности было единственным постановочным принципом.
Наиболее содержательными русскоязычными работами об американском актерском искусстве, напрямую связанным со сценической жизнью о’ниловских пьес, являются исследования «Американские актеры первой половины XXв.» И.С. Цимбал16 и «Американские сады Аллы Назимовой» М.Г. Литавриной17. Работа И.С.Цимбал анализирует сценическую судьбу знаменитой династии Джона, Лайонеля и Этель Барриморов (их деятельностью драматург живо интересовался) и звездной пары Альфред Лант и Линн Фонтанн (первой исполнительницы роли Нины Лидс в пьесе О’Нила «Странная интерлюдия»). Работа М.Г. Литавриной воссоздает творческую и личную биографию одной из ярчайших американских актрис 1910-1930-х гг. Аллы Назимовой, исполнившей роль Кристины в премьерной постановке трагедии «Траур – участь Электры». В статье «Сценическое искусство США» восьмитомной «Истории западноевропейского театра» наличествует содержательный анализ творчества ряда других актеров этого периода, что позволяет ясно представить театральный контекст эпохи.
Работа в большей степени опирается на американские исследования, хотя многие американские работы по истории театра ограничиваются фактологией и не содержат анализа того или иного явления.
Существенную часть списка литературы, использованной в диссертации, составляют книги по истории театра «Гилд» и воспоминания участников театрального процесса 1920-30-х гг.18, среди которых можно выделить книгу одного из руководителей театра «Гилд» Лоуренса Лангнера «Волшебный занавес»19.
Наиболее полными биографическими исследованиями, отражающими не только жизненный, но и творческий (в том числе связанный с театральной деятельностью) путь О’Нила, являются труд Артура и Барбары Гелб «О’Нил» и работа Трэвиса Богарда «Контур во времени. Пьесы Юджина О’Нила20.
Впервые проблема сценического воплощения драматургии О’Нила данного периода на материале ее премьерных постановок была поставлена в работе американского исследователя Р. Вэйнскотта «Постановки О’Нила: Экспериментальные годы. 1920-1934»21, собравшего огромный фактический материал по этой теме. Вэйнскотт также является автором значительной работы «Появление современного американского театра. 1914-1925»22, в которой он доказывает, что художественной концепцией, оказавшей наиболее существенное влияние на формирование искусства режиссуры и сценографии в США в первой трети XX в., был экспрессионизм.
Работой, подробно анализирующей языковое новаторство О’Нила в театральном аспекте, является книга Д. Чотиа «Ковка языка. Изучение пьес Юджина О’Нила»23. Через изучение театральных влияний, которым подвергался О’Нил и которые имели на него основополагающее воздействие, Чотиа исследует эволюцию метода драматурга в его неразрывной связи со сценической практикой.
Практическая значимость исследования определяется тем, что его результаты могут быть использованы в курсах лекций по истории зарубежного театра XX века. Работа также может быть полезна для последующих научных исследований, посвященных изучению феномена американской режиссуры.
Апробация исследования. По теме диссертации с 2007 г. автором опубликован ряд статей, анализирующих различные американские спектакли 1920-30-х гг. На аспирантской научной конференции в СПбГАТИ был сделан доклад «Алла Назимова в режиссуре Филипа Мёллера». Результаты исследования были использованы в курсах лекций по истории зарубежного театра и кино в Музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского. Обсуждение диссертационного исследования проходило на заседаниях кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы на русском и английском языках (263 названия).
Во Введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, определяются задачи исследования, его методологические принципы, анализируется литература вопроса, определяется ракурс изучения творчества Юджина О’Нила, дается общая характеристика его театральной деятельности. Рассматривается роль гастролей МХТ и системы К.С. Станиславского в развитии американского театра 1920-30-х гг. Неточная оценка влияния Станиславского на американское искусство данного периода помешала отечественным исследователям должным образом изучить эволюцию американской режиссуры. Во введении обосновывается композиция диссертации, в первой главе которой рассматриваются этапы становления американской режиссуры и творчество О’Нила до 1924г.; во второй главе анализируется начало сотрудничества О’Нила с театром «Гилд»; третья глава посвящена завершающему периоду активного участия О’Нила в театральном процессе 1920-30-х гг.
В первой главе диссертации – «Американский театр 1910-1920-х гг. Становление американской режиссуры и ранний период творчества Ю. О’Нила» – анализируется критическое освоение О’Нилом возможностей современного ему театра и рождение его театральной концепции на основе сотрудничества с самыми разными режиссерами.
В диссертации анализируется деятельность первого американского режиссера Дэвида Беласко (1853–1931) как наиболее яркого представителя «бродвейского искусства». Становление драматургического метода О’Нила оказалось тесно связанным, с одной стороны, с тем, что он был чрезвычайно сведущ в подобном театральном искусстве, с другой стороны, категорически его не принимал. Беласко основывал целостное решение спектакля на принципе точного копирования действительности. Однако эта целостность была внешней, поскольку спектакли были построены на одноплановой драматургии – его собственных мелодрамах. Спектакли Беласко распадались на отдельные достижения – актерские и декорационно-технические. Сугубо коммерческие цели, которые ставил перед собой режиссер, лишили его возможности экспериментировать и углублять найденные им постановочные решения. К середине 1910-х гг. подобный метод стал казаться современникам, успевшим познакомиться с достижениями европейского искусства, устаревшим. В главе дается обзор событий, способствовавших процессу обновления американского театра и становлению новой режиссуры. Создатели «малых театров» черпали у европейских практиков и теоретиков постановочные идеи, порывая с утвердившейся традицией создания иллюзии достоверности места действия.
Сотрудничество О’Нила с «малым» театром «Провинстаун Плейерс» открыло американскому театру нового драматурга. Но и для О’Нила работа над постановками его ранних пьес (начиная со спектакля «Курс на восток, в Кардифф» в 1916 г.) стала участием в настоящей творческой лаборатории, где он пробовал себя в качестве режиссера и актера. В работе подчеркивается значение для драматурга, не получившего систематического образования, театрального опыта – как позитивного (англоязычный дебют Аллы Назимовой в роли Гедды Габлер в 1907 г., гастроли труппы «Айриш Плейерс» «Эбби Тиэтра», начиная с 1911 г.) так и негативного (спектакли его отца, романтического актера) – поскольку именно этот опыт оказал решающее воздействие на его творчество.
В отличие от господствовавшей на американской сцене «хорошо сделанной пьесы», в драмах О’Нила отсутствовали занимательная интрига, благополучная развязка и морализаторство. Драматург мечтал о возникновении в США театрального искусства, вызывающего у зрителей катарсис. Анализ ранней драматургии О’Нила позволяет увидеть в ней подступы к тому, что станет главным в его зрелой драматургии – осознанию трагичности бытия и неизбежности борьбы человека с роком.
В главе анализируется драматургическое новаторство О’Нила, наличие в его пьесах режиссерского решения. Ремарки его пьес не только обрисовывали место действия: они создавали атмосферу, каждая деталь возникшей в его воображении декорации была результатом строгого отбора и становилась метафорой. Драматург впервые в США вывел в главные герои представителей «дна» общества. Специфическим свойством его драматургии, во многом обусловленным национальными корнями – вариативностью языка страны переселенцев – являлось использование возможностей сниженного языка. Грубая и не всегда связная речь его героев не только порывала с традицией бесцветного и благопристойного языка мелодрам, но и символически указывала на всеобщую разобщенность.
В главе подчеркивается значимость звукового оформления в пьесах О’Нила. Музыка, шумы и интонационный рисунок диалогов играли в его драматургии не менее важную роль, чем сценографические ремарки. Музыкальная структура пьес Юджина О’Нила роднила его с европейской новой драмой: начиная с самых ранних пьес, драматург настаивал на том, что пишет «от уха к уху» и для него важно, чтобы даже ритм диалогов имел «структурное качество музыкальной композиции»24.
В главе рассматривается пьеса О’Нила «Император Джонс», в которой драматург впервые последовательно использовал звуковой ритм в качестве структурообразующего элемента. Ускорявшиеся на протяжении пьесы удары там-тамов были и признаком непрекращающейся погони за героем, и отражали его внутреннее состояние. Звук становился камертоном пьесы, выполняя роль подтекста. Экспрессионистская – новаторская для американского театра – техника, примененная О’Нилом, позволила ему добиться в одноактной пьесе выполнения сложнейшей задачи: сопровождаемый несмолкаемыми ударами там-тамов яростный бег Брутуса Джонса в глубину джунглей превращался в бегство в собственные кошмары и далее – в коллективное бессознательное.
Проведенные в диссертации реконструкция и анализ спектакля «Император Джонс» (1920) в театре «Провинстаун Плейерс» демонстрируют, как уже в любительском театре на основе о’ниловской драматургии возник сложный сценический текст. Режиссерский диктат в «Провинстаун плейерс» отрицался, и тем не менее совместные усилия драматурга, двух режиссеров (Дж.-К. Кука и Д. Лайта), сценографа – приверженца движения «Новая сценография» (Л. Трокмортона) и актера-протагониста (Ч. Гилпина) создали целостный спектакль, стимулировавший рождение американской режиссуры, чьи поиски были далеки от жизнеподобия. Образное решение пространства в сочетании с созданием звуковой среды и выразительной актерской игрой помогли создать близкий к экспрессионистской эстетике спектакль, где динамичным и пугающим оказывалось пространство внутреннего мира главного героя.
Становление драматургического метода О’Нила неразрывно связано с широким распространением экспрессионистских идей в США в начале 1920-х гг. В главе анализируется экспрессионистский метод Артура Хопкинса (1878–1950) – одного из крупнейших режиссеров эпохи. Реконструкция и анализ спектакля А. Хопкинса «Анна Кристи» (1921) по пьесе О’Нила показывают, как в реалистической по форме пьесе режиссер сумел обнаружить двойственность, наличие иной, невидимой сущности, выявить хрупкость миропорядка. Делается вывод о том, что основными инструментами Хопкинса явились лаконичность пластики актеров и внимание к сложной вербальной структуре пьесы (различие диалектов персонажей). В немалой степени успеху постановки способствовали и декорации Р.-Э. Джонса, использовавшего метод стилизации. В главе анализируется творческий почерк сценографа – важнейшей фигуры американского театрального процесса 1920-30-х гг. Американская сценография (и прежде всего ее основоположники – Р.-Э. Джонс и Л. Симонсон) формировалась под влиянием идей Э.-Г. Крэга и А. Аппиа, спектаклей Л. Йесснера, М. Рейнхардта, труппы «Айриш Плейерс» «Эбби тиэтра». Но к 1920-м гг. американские художники не только обрели собственный почерк, но и вступили в полемику с Э.-Г. Крэгом и Л. Йесснером.
Реконструкция и анализ следующей совместной работы О’Нила с режиссером Д. Лайтом и сценографами Р.-Э. Джонсом и Л. Трокмортоном – спектакль «Косматая обезьяна» (1922) – позволяет сделать вывод о том, что, драматург стремился к радикальному обновлению театральной формы. Экспрессионистский способ построения пьесы через преодоление индивидуальных, случайных черт позволил добиться трагической глубины. Однако драматург не только не отказался от индивидуализации речи, как это сделали экспрессионисты, но, напротив, придал ей метафизическое значение. Воплощенная в спектакле вопиющая разность речи персонажей знаменовала безуспешность попыток Янка обрести свое место в мире. Еще более революционной для своего времени, даже по сравнению с постановкой пьесы «Император Джонс», была звуковая среда спектакля, составленная из режущих слух шумов. Спектакль был построен как восемь ярких «вспышек», каждая из которых погружала зрителей в атмосферу ночного кошмара. Сценография демонстрировала условность внешнего мира и вместе с тем, благодаря гротескной форме, выявляла его уродливую сущность. Анализ спектакля подтверждает его близость экспрессионистской эстетике, что позволяет констатировать принципиальную разность театральных воззрений Ю. О’Нила и К.С. Станиславского, оставившего о спектакле негативный отзыв.
Анализ спектакля «Любовь под вязами» (1924), который был поставлен в организованном Ю. О’Нилом, К. Макгоэном и Р.-Э. Джонсом «Экспериментал тиэтр», позволяет выявить ряд трудностей, с которыми столкнулся драматург на пути осуществления своего постановочного замысла. Одной из них стало неумение актеров, воспитанных в мелодраматической традиции, использовать диалекты, столь важные для характеристики о’ниловских персонажей (одобрение у О’Нила получил лишь исполнитель роли Кэбота Вальтер Хастон).
Другой стало неумение неопытного режиссера (в двойном качестве выступил сценограф Р.-Э. Джонс) воплотить не только взаимоотношения персонажей, возникающие в окружающем их пространстве, но и те темные, неведомые силы, наличие которых стремился передать драматург. Созданная Джонсом единая установка дома (одна из первых в истории сценографии XX века) позволяла действию развиваться симультанно, а движения окон-заслонок выделяли то или иное место действия. Однако рассмотрение этапов совместной работы над спектаклем драматурга и его соратника выявляет ошибочность пути буквального следования авторскому диктату: сценография Джонса почти вторила созданным О’Нилом эскизам, но этого оказалось недостаточно.
Когда в 1930 г. О’Нил увидел в Париже спектакль «Любовь под вязами» Московского Камерного театра, ему оказался гораздо ближе метод А.Я. Таирова с укрупнением эмоций и ритмическим построением спектакля. В «эмоциональном до музыкальности»25 спектакле Таиров осуществил то, к чему стремился О’Нил – обнаружил мифологическую структуру в современном сознании.
Вторая глава «Театр "Гилд". "Странная интерлюдия" и "Динамо"» посвящена началу сотрудничества О’Нила с режиссером Ф. Мёллером.
В главе подробно анализируется революционная для своего времени деятельность созданного в 1918 г. театра «Гилд», противопоставившего себя не только коммерческим, единовластно управлявшимся продюсерами, но и «малым» театрам, которым не хватало профессионализма и размаха. Цель театра – знакомство американских зрителей исключительно с новой европейской драматургией – позволила появиться на его подмостках постановкам пьес Б. Шоу (многие из них стали мировыми премьерами), Л.Н. Толстого, Г. Кайзера, Ф. Мольнара. Признание «Гилду» обеспечивал не только новый для Бродвея репертуар, но и то, что на его сцене творили знаменитые актеры, а сценографию создавали Р.-Э. Джонс и Л. Симонсон. Несмотря на то, что руководивший театром комитет стремился приглашать на постановку спектаклей ведущих европейских режиссеров (в том числе Ф. Райхера, Ф. Комиссаржевского, Ф. Холла, Ж. Копо), в театре постепенно определился главный режиссер: им стал Филип Мёллер.
В главе анализируется творческий путь режиссера, выявляется его своеобразный, вызывавший у современников споры постановочный метод, который Мёллер называл «интуитивным». Несмотря на то, что режиссер никогда не создавал предварительную концепцию будущего спектакля, творческие удачи Мёллера позволяют сделать вывод о жизнеспособности его принципов работы с привыкшими солировать бродвейскими «звездами». Главной особенностью его метода являлась молниеносная реакция на импульсы, возникавшие по ходу работы над постановкой. Долгие застольные репетиции и обсуждения позволяли актерам проникнуть в суть пьесы и при переходе на сцену (поначалу актеры получали полную свободу действий) самим прийти к пониманию необходимости ансамбля.
Анализ метода Мёллера позволяет утверждать, что основополагающим свойством его режиссуры было внимание к музыкально-ритмической стороне постановке. Но частью звуковой партитуры для него была не только звучавшая в спектакле музыка. Во многих поставленных им спектаклях передвижения персонажей сводились к минимуму, а главным становился диалог (отсюда и долгий «застольный» период репетиций), который он также полагал музыкальным компонентом спектакля. Принимая во внимание особую внутреннюю музыкальность пьес О’Нила и его требовательность к звуковому ряду в спектаклях, долговременное и плодотворное сотрудничество Мёллера с О’Нилом, начавшееся с постановки пьесы «Странная интерлюдия» в 1928 г. и окончившееся лишь в 1934 г.26, выглядит совсем не случайным. Не подлежит сомнению тот факт, что, поработав до 1928 г. с самыми разными постановщиками (к этому времени в Америке увидели сцену 19 его пьес), О’Нил обрел «своего» режиссера именно в лице Мёллера.
В главе подробным образом анализируется пьеса «Странная интерлюдия»27 (1927), открывшая перед американской драматургией новые горизонты. «Странная интерлюдия» – почти двухсотстраничная пьеса в девяти актах – охватывает более чем двадцатилетний промежуток времени. В «Странной интерлюдии» драматург, по сути, соединил драматургическую и романную форму. Перипетий, с точки зрения внешнего действия, в пьесе немного, а те, что есть, происходят между действиями и проявляются лишь в реакциях персонажей. Объектом мимесиса у О’Нила становится внутренняя жизнь персонажей (в этом творчество О’Нила явилось созвучным художественным поискам М. Пруста и Д. Джойса), а реплики, которые герои адресуют своим собеседникам, являются лишь небольшими островками в потоках сознания, которые выражаются длинными монологами. Рассмотрение пьесы в контексте творчества О’Нила позволяет считать внутренние монологи не просто приемом, а выражением его магистральных тем – недостижимости счастья и трагического разлада в мире и внутри каждого человека. Характеры героев пьесы «Странная интерлюдия» выступают как архетипы, что позволяет проследить близость драматурга идеям К.Г. Юнга. Также в главе приводится сопоставление «Странной интерлюдии» с пьесой «Игра снов» А. Стриндберга – драматурга, оказавшего на О’Нила колоссальное влияние.
В главе воссоздается и анализируется премьерная постановка пьесы «Странная интерлюдия» в театре «Гилд» (1928). Отмечается найденное Ф. Мёллером решение главной постановочной проблемы пьесы – внутренних монологов. В то время, как кто-нибудь из актеров произносил монолог, остальные актеры застывали, незаметно прекращая свои действия, так что их статика выглядела естественно. После окончания монолога (произносивший его актер чаще всего поворачивался лицом в зал, но сохранял полную свободу жестов и мимики, что исключало монотонность) все их движения немедленно возобновлялись, создавая впечатление непрерывности происходящего. В главе анализируется практическая роль драматурга в репетиционном процессе, которая при подготовке «Странной интерлюдии» была очень активна. Выявляется последовательное стремление О’Нила к достижению в спектакле эмоционального единства, отразившее его мечту о возрождении трагического искусства. Для драматурга было важно, чтобы единый ритм спектакля заставил зрителей прикоснуться к той роковой стихии, которая скрыта за словами и поступками его героев. В главе анализируется актерское мастерство исполнительницы главной роли Линн Фонтанн, в богатой творческой биографии которой «Странная интерлюдия» стала центральным событием, благодаря особому вниманию актрисы к интонационным партитурам своих ролей. Не только высокая оценка, полученная спектаклем у критиков, но и феноменальный зрительский успех столь сложного сценического текста позволяет считать спектакль «Странная интерлюдия» этапным событием американского театра данного периода.
Анализ следующей пьесы О’Нила – «Динамо»28 – позволяет установить причину неудачи драматурга, которая кроется в неуместном использовании найденного для «Странной интерлюдии» приема внутренних монологов и неоправданном накале эмоционального градуса при недостатке драматизма. В отличие от «Странной интерлюдии», «апарте» героев «Динамо» не слишком контрастировали с произносимыми словами, поскольку внутренний мир героев не отличался сложностью. Позднее О’Нил признал, что его подвело стремление к театральным эффектам: «внутренний режиссер» подменил драматурга.
Однако реконструкция и рассмотрение премьерного спектакля (1929) позволяет сделать вывод о том, насколько глубоко пьеса была прочитана режиссером Ф. Мёллером и сценографом Л. Симонсоном. Схематичная метафоричность пьесы, для постановки которой О’Нил настаивал на создании точно сложных и точно выверенных звуковой и световой партитур, дала режиссеру и сценографу простор для аудиовизуальных новаций.
Режиссер и сценограф пытались придать пьесе единство, которым она не обладала. Действие спектакля – в отличие от пьесы – с самого начала развивалось по законам экспрессионистской эстетики. Персонажи выступали не как реальные люди, а скорее как проекция мысли главного героя, роковая судьба которого почти с самого начала предопределена жужжащей машиной. В главе анализируется сценографическая концепция Ли Симонсона, увлеченного идеями экспрессионизма. Считая реализм «преобладающим пороком»29 американской сцены, Симонсон тяготел к созданию ярких лаконичных форм и экспериментам с театральным светом (здесь сказалось влияние идей А. Аппиа). Анализ сценографического решения спектакля «Динамо» позволяет сделать вывод о том, что художник, наряду с режиссером, был полноправным соавтором спектакля. Так, вопреки указаниям драматурга, Симонсон выстроил на сцене два дома – две металлические конструкции без стен, окружив их циклорамой и спроецировав между ними смутные очертания электростанции, а смену мест действия осуществлял световым пятном, что напоминало кинематографический кадр. В главе делается вывод о том, что в случае с постановкой «Динамо» язык спектакля оказался содержательнее материала пьесы. Режиссер и сценограф фактически подменили драматурга.
В третьей главе – «"Траур – участь Электры", "Ах, пустыня!" и "Дни без конца"» – анализируется последний активный этап сотрудничества Юджина О’Нила с театром до его затворничества в 1934 г. Трагедия О’Нила «Траур – участь Электры» рассматривается с точки зрения новаторства формы, нового витка в эволюции театральной концепции драматурга. В трилогии О’Нила, основой которой послужила «Орестея» Эсхила, герои вновь вступали в конфликт с роком, проявлявшимся как бессознательное. В созвучии с концепцией К.Г. Юнга именно бессознательное героев задавало в о’ниловской трилогии мифологическую структуру. Анализ вербальной структуры трагедии позволяет считать ее продолжением эксперимента «Странной интерлюдии», но без внутренних монологов. Современная, традиционная лексика, насыщенная интонационными нюансами, призвана была создавать ощущение трагической раздвоенности персонажей, разрыва между видимым и сущим. В главе также рассматривается введение драматургом в трилогию понятия «маска», которое обладало и смысловым, и формообразующим значением. Уподобление лиц героев маскам драматург мотивировал новейшими данными психологии, согласно которым «все носят маску – не одну, а тысячи масок»30. С точки зрения сценической формы неподвижная мимика и грим у актеров, игравших Мэннонов, должны были помочь избежать психологического реализма («добиться Электры в Лавинии»), сделать невозможным восприятие спектакля лишь на уровне сюжета. Анализ пьесы позволяет увидеть в ней углубление трагической концепции драматурга, что требовало от режиссера, сценографа и актеров решения более сложных задач.
Анализ и реконструкция премьерного спектакля «Траур – участь Электры» 1931 г. (режиссер – Ф. Мёллер, сценограф – Р.-Э. Джонс), ставшего знаковым для своей эпохи, позволяет сделать вывод о возникших в нем противоречиях, которые в силу специфических условий развития театра в США, не могли быть преодолены. Так, спектакль был решен режиссером Мёллером как противостояние Кристины и Лавинии, которое подчеркивалось и декорациями Джонса, и музыкальным оформлением. В глазах современников героини спектакля явились олицетворением жизни и смерти. В главе делается вывод о том, что вопреки трагической концепции О’Нила Кристина в исполнении «звезды» американской сцены Аллы Назимовой была воплощением чувственного, почти животного начала, в то время как Лавиния в исполнении Элис Брэди представала неумолимой мстительницей за отца. В спектакле лишь она обладала неподвижным, уподобленным маске лицом, становясь не только персонажем, но и воплощением пуританизма, который безжалостно карал отступников. Образ Лавинии оказался в спектакле частью обесчеловеченного, населенного гротескными обывателями мира. В противоположность ей наделенная витальностью и красотой Кристина становилась в режиссерской концепции сложным, противоречивым персонажем. Профессионализм и харизматичность Назимовой (ее пригласил в спектакль сам драматург) и неумение Брэди выстроить сложный рисунок роли дают все основания предположить, что Мёллер сместил акцент с Лавинии на Кристину сознательно.
В главе делается вывод о расхождении между пьесой и ее сценическим воплощением, поскольку в трилогии О'Нила каждый герой является носителем Рока – бессознательного, тогда как в спектакле орудием пуританского Рока для всех остальных персонажей становилась Лавиния-Брэди. Лавиния не превращалась в трагическую героиню, совершавшую волевой поступок: в спектакле трагического выбора и преодоления рока не происходило. Героиней, вызывавшей интерес и симпатию публики, была Кристина в исполнении А. Назимовой. При всей своей значительности, спектакль не стал трагедийным, как того хотел драматург. Актрисы не только не смогли воплотить в своих героинях мифологические прообразы, но и оказались глухи к вербальным нюансам, столь принципиальным для драматурга. В главе делается вывод о том, что в спектакле, где главные роли были доверены исполнительницам, не привыкшим играть в ансамбле под руководством режиссера, дала о себе знать извечная проблема американского театра – привычка «звезд» акцентировать внимание зрителей на своей роли вне зависимости от содержания пьесы.
С другой стороны, рассмотрение постановки трилогии О’Нила, в которой актерами был выдержан единый – медленный и зловещий – ритм, позволяет увидеть в ней квинтэссенцию настроений эпохи Великой Депрессии: общая атмосфера спектакля была наполнена ощущением кризиса цивилизации. В немалой степени этому способствовали декорации Р.-Э. Джонса, сумевшего с помощью внешне реалистической обстановки создать ощущение ирреальности: так, комнаты в доме Мэннонов отражали внутренний мир героев.
Анализ следующей, во многом автобиографической пьесы Юджина О’Нила «Ах, пустыня!»31, ставшей в дальнейшем одним из самых репертуарных его произведений, позволяет сделать вывод о новаторстве драматурга и в жанре комедии. Вопреки традиционной для американской сцены комедии положений, герои которой были типажны и укладывались в систему амплуа, О’Нил создал интеллектуальную комедию характеров, поместив в центр рефлексирующего взрослеющего героя. Прописанные в комедии О'Нила характеры давали актерам нетипичный и богатый материал для создания образов. В главе делается вывод о продолжении О’Нилом поисков выразительности через создание богатой звуковой среды. В комедии «Ах, пустыня!» присутствует не просто музыка, в ней наличествует и шумовая, и песенная партитура (в дальнейшем пьеса даже послужила основой для создания мюзикла). Музыка и поэзия в комедии вплоть до последней сцены призваны показать несоответствие между подлинным и внешним.
На основе восторженного отзыва Д. Сэлинджера о премьерной постановке пьесы О’Нила (1933) в главе проводится сопоставление пьесы «Ах, пустыня!» и повести «Над пропастью во ржи», что позволяет найти между ними очевидные параллели.
Рассмотрение подготовки спектакля, в которой драматург принимал непосредственное участие, позволяет судить о свойственном О’Нилу сценическом чутье: на этот раз О’Нил не только не противился увеличению бытовых подробностей в сценическом существовании актеров, но и сам предлагал комические мизансцены. Первостепенной задачей драматурга и режиссера было создание актерского ансамбля, который бы воплотил на сцене духовную близость членов семьи Миллер.
Анализ созданной Р.-Э. Джонсом сценографии позволяет утверждать, что и на этот раз она не просто изображала место действия, но отражала настроение, внутренний мир протагониста – Ричарда. Постоянное сотрудничество драматурга с одной и той же командой профессионалов позволяло добиться каждый раз качественно нового результата. Но в высоко оцененном критикой спектакле все же возникло противоречие, которое со временем заметил и драматург. Оно было связано со смещением акцента с роли Ричарда на роль его отца Ната Миллера, которую исполнил актер–«звезда» Джордж М. Коэн. Парадокс заключался в том, что именно талантливый актер делал постановку по–настоящему яркой и запоминающейся, но это неизменно наносило урон целостности спектакля. Причины этой проблемы крылись и в принципах организации американского театра, и в отсутствии соответствующей актерской школы. О’Нил пытался разрешить ее в течение всей своей работы в театре, но побороть стандарты Бродвея оказалось выше его сил.
Итогом совместной работы О’Нила и Мёллера в театре «Гилд» стала постановка пьесы «Дни без конца»32 (1934), которую драматург считал (наряду с пьесой «Ах, пустыня!») самым личным произведением этого периода. В главе анализируется отвергнутая современниками пьеса «Дни без конца», в которой О’Нил показал единство противоположных начал в одном человеке при помощи двойника главного героя, демона-искусителя, который носит маску, повторяющую его черты. Драматургическое несовершенство пьесы видится в разъятии героя на два противоположных – доброго и злого – персонажей; в отказе от сколько-нибудь интересной коллизии; в предполагающем однозначное толкование благополучном финале и в использовании пафосного, тривиального языка, в значительной степени близкого языку мелодрамы. Тем не менее, пьеса представляется важной вехой на творческом пути О’Нила.
В главе анализируются статьи, написанные О’Нилом после завершения работы над пьесой «Дни без конца». Подводя итог своим новаторским исканиям в области формы, драматург писал о необходимости широкого введения в театральный обиход масок. Только с их помощью он считал возможным показать разрыв между видимыми и истинными мотивами поведения раздираемых противоречиями людей XX в. Реалистическая актерская техника, по его мнению, устарела для выполнения такой важной задачи, как показ всех глубин внутренней жизни человека.
Будучи практиком театра, О’Нил обозначил и другие задачи, которые бы решились введением масок в театре. Маски должны были вернуть великим классическим пьесам их универсальный масштаб и позволить воображению зрителя поставить себя на место главных героев вместо того, чтобы холодно наблюдать за трактовкой роли известными актерами. Также маски должны были стать основой пластического тренинга.
Реконструкция и анализ спектакля «Дни без конца» (1934) позволяют сделать вывод об эволюции режиссерского мастерства Мёллера, сумевшего продемонстрировать яркое решение, преодолевая драматургическое несовершенство материала. Ему удалось создать на сцене гнетущую атмосферу внутреннего мира Джона (его роль исполнил высоко ценимый О’Нилом актер Эрл Ларимор), управляемого демоном Лавингом. Все сцены, за исключением двух последних, были почти статичны и шли в очень медленном темпе, что акцентировало внимание на развязке, выражавшей идею пьесы. В спектакле возникал мир зла, гипнотически подчиненный Лавингу. В каждой сцене (где декорации Л. Симонсона изображали все более сокровенные для Джона интерьеры), зрители все глубже погружались в мир разъятой души.
Провал пьесы знаменитого драматурга в столь сложное время явился катализатором ряда губительных для театра «Гилд» процессов. В главе приводятся причины, которые привели к ослаблению интенсивности творческих поисков театра. Делается предположение о том, что со стороны драматурга прекращение активного сотрудничества с театром было вызвано не столько неудачей спектакля «Дни без конца», сколько потребностью в переосмыслении своего творческого метода. Возникает закономерный вывод о том, что именно театральные эксперименты О’Нила позволили ему прийти в последнем периоде творчества к созданию наиболее целостных и глубоких пьес, в которых драматургу удалось выразить трагизм жизни в категориях объективной реальности, не прибегая при этом к языку мелодрамы.
В заключении подводятся итоги исследования. Прослеживается становление в США искусства режиссуры, формулируются основные составляющие театра Юджина О’Нила 1920-30-х гг. в соотношении с методами и эстетикой режиссеров, с которыми он сотрудничал.
Драматургия Юджина О’Нила – первый американский образец новой драмы – уже содержала режиссерское решение. Драматург уделял пристальное внимание ремаркам, описывавшим все детали воображаемой им сценографии и, в то же время, имевшим символический подтекст. Важнейшим качеством пьес О’Нила было неизменное наличие в ней звуковой партитуры (и вербальной, и шумовой), которая эволюционировала от ранних пьес к пьесам начала 1930-х гг. И сложное идейное содержание пьес О’Нила, и заложенные в них сценографическое решение и звуковая партитура не могли быть осуществлены воспитанными на мелодраме режиссерами, которые шли по пути копирования действительности на сцене. Этот метод, наиболее ярким воплощением которого было творчество Д. Беласко, был главенствующим в американском театре до появления европейских гастролеров и переворота, совершенного «малыми театрами» в 1910-х гг.
Постановки ранних пьес О’Нила, осуществленные в «Провинстаун плейерс» и прежде всего спектакль «Император Джонс» утвердили правомерность поисков новых, нереалистических, средств выразительности. Драматургия О’Нила подталкивала режиссеров и художников к поискам ярких постановочных решений и в то же время позволяла драматургу и углублять идейное содержание пьес, и экспериментировать с их формой. Анализ наиболее ярких премьерных постановок пьес О’Нила является отражением процесса развития американского искусства режиссуры, поскольку почти все значительные режиссеры и сценографы эпохи оказались вовлечены в сотрудничество с драматургом. Уникальность этого сотрудничества состоит в том внимании, с которым О’Нил относился к театральному процессу и который стремился реформировать в духе трагической концепции.
Спектакли по пьесам О’Нила показывают вовлеченность американского театра в поле модернистских театральных экспериментов, характерных для европейского театрального искусства того же периода. Открытия в области драматургической формы, мизансценических принципов и действенной сценографии, сделанные О’Нилом и его соратниками – режиссерами Д. Лайтом, А. Хопкинсом, Ф. Мёллером, сценографами Л. Трокмортоном, Р.-Э. Джонсом, Л. Симонсоном – позволяют включить американское театральное искусство 1920-30-х гг. в общемировой театральный контекст.
Публикации автора по теме диссертации в ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:
1. Клейман Ю.А. Счетная машина // Театральная жизнь. 2008. № 3. С. 81-82. (0,4 а.л.)
2. Клейман Ю.А. Опыт четырехмерности. Премьерная постановка пьесы Юджина О’Нила «Странная интерлюдия» (Нью-Йорк, 1928) // Вопросы театра. 2010. № 3-4 (в производстве) (1 а.л.)
Публикации в других изданиях:
3. Клейман Ю.А. Алла Назимова в режиссуре Филипа Мёллера // Феномен актера. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007. С. 35-39. (0,4 а.л.)
4. Клейман Ю.А. Первая постановка трагедии Юджина О’Нила «Траур – участь Электры» // Театрон. 2009. № 1(3). C. 70-80. (1 а.л.)
Сноски:
1 O’Neill E. To Barreth Clark [21 June 1929] // O’Neill E. Selected letters of E. O’Neill / Ed. by T.Bogard, J..B.Bryer. New Haven; London, 1982. P. 344
2 Барбой Ю.М. К теории театра. СПб., 2008; Костелянец Б.О. Драма и действие. М., 2007; Бентли Э. Жизнь драмы. М., 2004.
3 Громов П.П. Ранняя режиссура Мейерхольда // Громов П.П. Написанное и ненаписанное. М., 1994. С.13-117; Титова Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995.
4 Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1978; Березкин В.И. Без границ (Сценографические искания первой половины XX века) // Диалог культур. Проблемы взаимодействия русского и мирового театра XX века. СПб., 1997. С. 213-263; Гвоздев А.А. Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Л.; М., 1939; Гительман Л. И. Идейно-творческие поиски французской режиссуры XX в. Л., 1988; Громов Н.Н. Горизонты сценографии. СПб., 2006; Максимов В.И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007. 314с.
5 Innes C.D. Avant garde theatre. 1892-1992. London, 1993; Макарова Г.В. Экспромты, фуги и оратории: Немецкий театр XX в. и дух музыки // Западное искусство ХХ век. СПб., 2001. С. 229-254; Ришар Л. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003; Струтинская Е.И. Истоки и становление экспрессионистической образности в сценографии // Струтинская Е.И. Искания художников театра. Петербург-Петроград-Ленинград. 1910-20-е годы. М., 1998. С. 97-108.
6 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976; Porter T.E. Myth and modern American drama. Detroit, 1969.
7 Молодцова М.М. Персонаж-маска в поздней драматургии Л.Пиранделло («Такая, как ты хочешь») // Проблемы реализма в зарубежном театральном искусстве. Л., 1979. С. 22-35; Хайченко Е.Г. К проблеме перевоплощения в театре XX в: между маской и лицом // Западное искусство. XX в. Образы времени и язык искусства. М., 2003. С. 126-147; Шуттинг Р.К. Проблема маски у драматургов XX века // Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991. С. 142-152.
8 Коренева М.М. Творчество Юджина О’Нила и пути американской драмы. М., 1990.
9 Аникст А.А. Юджин О’Нил // О’Нил Ю. Пьесы: В 2 т. М., 1970. Т. 1. С. 5-40; Цимбал И.С. От Ю.О’Нила к современной американской драме (Преемственность проблематики) // Социальная тема в современном зарубежном театре и кино. Л., 1976. С. 103-120; Цимбал И.С. Трагедия отчуждения // Наука о театре. Л., 1975. С. 260-276; Цимбал И.С., Викторова Е.Ф. Миф в трагедии Ю. О’Нила // Традиции и новаторство в зарубежном театре. Л., 1986. С. 42-57; Фридштейн Ю.Г. Странная увертюра // Современная драматургия. 1999. №2. С. 164-165.
10 Злобин Г.П. Косноязычное красноречие Юджина О’Нила // O’Нил Ю., Уильямс Т. Пьесы. М., 1985. С.15-26; Пинаев С.М. Поэтика трагического в американской литературе (Драматургия Ю. О’Нила). М., 1988; Ромм А.С. Американская драматургия первой половины XX в. Л., 1978; Ромм А.С. Юджин О’Нил // История западноевропейского театра: в 8 т. М., 1988. Т. 8. С. 140-165; Шамина В.Б. Два столетия американской драмы: Основные тенденции развития. Казань, 2000.
11 Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л., 1976.
12 Гладышева К.А. Театр Соединенных Штатов Америки // История зарубежного театра: В 4 т. М., 1986. Т.3. С.198-253
13Ступников И.В., Любимова Е.Н. Сценическое искусство США // История западноевропейского театра: В 8 т. М., 1988. Т. 8. С.194-252.
14Гладышева К.А. Развитие реализма в американском театре XX в. и система Станиславского. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат искусствоведения. М., 1968; Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского. М., 1988.
15 Театр широкого потребления [Интервью] // Станиславский. 2007. № 3. С. 17.
16 Цимбал И.С. Американские актеры первой половины XX в. Л., 1989.
17 Литаврина М.Г. Американские сады Аллы Назимовой. М., 1995.
18 Atkinson B. Broadway. N.Y., 1974; Clurman H. The fervent years. N.Y., 1982; Crawford C. One naked individual: My fifty years in the theatre. Indianopolis; N.Y., 1977; Eaton W.P. The Theatre Guild: The First Ten Years. N.Y., 1929; Nadel N. A pictorial history of the Theatre Guild. N.Y., 1969; Waldau R.S. Vintage years of the Theatre Guild. 1928-1939. Cleveland; London, 1972
19 Langner L. The magic curtain. N.Y., 1951.
20 Gelb A., Gelb B. O’Neill. London, 1973; Bogard T. Contour in time: The plays of Eugene O’Neill. N.Y., 1972.
21 Wainscott R.H. Staging O’Neill: the experimental years. 1920-1934. New Haven; London, 1988.
22 Wainscott R.H. The Emergence of the Modern American Theatre. 1914-1925. New Haven; London, 1997.
23 Chothia J. Forging a language: A study of the plays of Eugene O’Neill. Cambridge, 1979.
24 Цит. по: Simonson L. A memo from O’Neill on the sound effects for Dynamo // O’Neill and his plays. Four decades of criticism. N.Y., 1961. Р. 454.
25 По отзыву советского рецензента М. Романовского. Цит. по: Сбоева С.Г. Таиров. Европа и Америка. Зарубежные гастроли Московского Камерного театра. 1923-1930. М., 2010. С. 431.
26 В 1934 г. драматург фактически навсегда прекратил сотрудничество с какими бы то ни было театрами.
27 Пьеса не переводилась на русский язык.
28 Пьеса не переводилась на русский язык
29 Simonson L. Legacy // The Theatre of Robert Edmond Jones / Ed. by R. Pendleton. Middletown, 1958. P. 16.
30 Цит. по: Gelb A., Gelb B. O’Neill. London, 1973. P. 740.
31 Пьеса не переводилась на русский язык.
32 Пьеса не переводилась на русский язык.