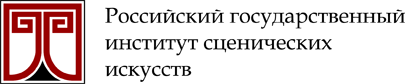Диссертация
Константинова А.В. ФЕНОМЕН ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДРАМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Г. МАЦКЯВИЧЮСА
На правах рукописи
Константинова Анна Владимировна
Феномен пластической драмы
в творчестве Гедрюса Мацкявичюса
Специальность 17.00.01 – Театральное искусство
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения
Санкт-Петербург
2013 г.
Работа выполнена на кафедре русского театра Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства»
Научный руководитель: кандидат искусствоведения Маркова Елена Викторовна
Официальные оппоненты:
Богданов Игорь Алексеевич, доктор искусствоведения, профессор. заведующий кафедрой эстрадного искусства и музыкального театра СПбГАТИ
Гончаренко Алексей Николаевич, кандидат искусствоведения, главный специалист кабинета театров для детей и театров кукол Союза театральных деятелей РФ (ВТО).
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств».
Защита состоится 26 декабря 2013 г. в 17.00 час. на заседании диссертационного совета Д 210.017.01 в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства по адресу: 191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 35, ауд. 512.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (Моховая ул., д. 34)
Автореферат разослан « » ноября 2013 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета Некрасова И. А.
Гедрюс Мацкявичюс (1945–2008) – режиссер, хореограф, актер-мим, драматург, педагог. Его спектакли, бессловесные сценические полотна, созданные от начала 1970-х до конца 1980-х гг., получили название «пластических драм». Данная диссертация является первой попыткой детального театроведческого анализа этого феномена.
«Пластические драмы» Г. Мацкявичюса рассматриваются в контексте театральной эпохи 1970-х – 1980-х гг., когда интерес к зрелищной выразительности сценических произведений соответствовал общему нарастанию потока визуальной информации. Советский драматический театр, наследуя новаторским открытиям оттепельных лет, осмысливая и развивая их, продолжал поиск современного языка и выхода за рамки «канонизированного» психологического театра, внедряя в спектакли зрелищные и музыкальные средства выразительности. Искусство актерской пластики завоевывало право рассматриваться не только как прикладной элемент языка спектакля, но и как самостоятельный вид сценического творчества, в котором движение и статика актерского тела выполняют функцию главного организатора визуального внимания зрителя. Осваивая школу классиков зарубежной пантомимы, соприкосновение с которой происходило с конца 1950-х до середины 1970-х гг., формировавшийся советский (преимущественно студийный) пластический театр одновременно пытался выйти за ее пределы, создать самостоятельные выразительные принципы. Совпадение этих факторов позволило зародиться особому типу драматургии, режиссуры и существования актера, ориентированному на преобладающую визуальность высказывания. Одним из ярчайших случаев театральной формы подобного рода были спектакли Г. Мацкявичюса, составившие репертуар созданного им театра.
В исследовании рассматриваются проблемы драматургии и режиссуры пластического театра, пантомимы как основы воспитания синтетического актера. А также проблема терминологии «пластической драмы», с учетом самого широкого понимания современным театроведением одного из основополагающих театральных понятий – пантомимы – и его производных («мимодрама», «аллегорическая пантомима» и т. п.). В данном случае представляется наиболее корректным говорить об авторском стиле режиссуры Г. Мацкявичюса и о «пластической драме» – как о жанре спектаклей в собственной формулировке режиссера.
Созданный Г. Мацкявичюсом авторский театр был уникален, несмотря на то, что в экспериментах со средствами пластической выразительности актера у «московского литовца» имелись как предшественники, так и последователи. Диссертационная работа рассматривает творчество Мацкявичюса как масштабный эксперимент в области пластических возможностей современного актера и заимствования композиционных принципов изобразительных искусств для создания большой формы невербального сценического текста.
Исследование феномена «пластических драм» в творчестве Г. Мацкявичюса актуально, поскольку отвечает возрастающему интересу современного театроведения к выразительным возможностям пластики актера и применения этих возможностей в сценической практике наших дней.
Объект исследования – история советского пластического театра последней трети XX в.
Предмет исследования: «пластические драмы» Г. Мацкявичюса как феномен советского театра 1970-х – 1980-х гг.
Цель исследования: выявить художественную специфику и эволюцию «пластических драм» в творчестве Г. Мацкявичюса в период с 1973 по 1989 гг.
Задачи исследования:
- предложить терминологическое обоснование феномена «пластических драм» Г. Мацкявичюса.
- выявить аналитические параллели между двумя значительными явлениями советского пластического театра: режиссерским творчеством М. Тенисона в период существования Каунасской студии пантомимы (1967–1972 гг.) и Г. Мацкявичюса в рамках руководства Московским театром пластической драмы (1973–1989 гг.);
- определить особенности режиссерского и педагогического метода, выработанного Г. Мацкявичюсом в процессе создания «пластических драм».
Методология исследования. В диссертации используются выработанные отечественной наукой о театре принципы описания и анализа спектаклей. Работа опирается на традиции и методы ленинградской – петербургской школы театроведения. При рассмотрении некоторых аспектов творчества Г. Мацкявичюса применяются также методологические принципы смежных гуманитарных наук: философии, литературоведения, семиотики.
Научная новизна исследования заключается в том, что большинство «пластических драм», созданных Г. Мацкявичюсом в период с 1975 по 1989 г., описаны и проанализированы здесь впервые. Также впервые предпринимается многоаспектный театроведческий анализ творчества этого режиссера как целостного новаторского явления практики советского театра.
Материалы исследования:
- публикации в периодической неспециальной прессе (посвященные как Театру пластической драмы, так и Каунасской студии пантомимы, в том числе интервью и беседы с Г. Мацкявичюсом<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->); драматургия и литературные источники сценического текста «пластических драм»;
- материалы частных архивов: видеозаписи спектаклей, документальные фильмы разных лет<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->; неопубликованные рукописи; фотографии; записи бесед и переписка с исполнителями «пластических драм»;
- книга «Преодоление»<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->, вышедшая через два года после ухода Г. Мацкявичюса из жизни (воспоминания близких режиссера и артистов созданного им театра, фотографии, авторские сценарии «пластических драм» и материалы из архива режиссера, посвященные осмыслению собственного творческого пути и методов режиссуры, драматургии и воспитания актера).
Литература вопроса. Театру пластической драмы Г. Мацкявичюса посвящено шесть аналитических статей в профильных театральных изданиях<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->. Среди них нет ни одной полной рецензии, и объективной причиной тому видится как неготовность критики анализировать уникальный авторский язык «пластической драмы» в рамках имевшейся академической методики и терминологии, так и сложность задач, поставленных творчеством Мацкявичюса перед теоретиками театра. Отсюда признание авторами статей новизны явления, трудности его классификации, и желание объяснить его в контексте биографии самого Г. Мацкявичюса, выявить закономерности формы его спектаклей и найти для них адекватную терминологическую систему.
Из публикаций в неспециальной прессе следует выделить статьи Н. Эльяша, Ю. Каюрова, А. Прохорова, Е. Марковой, Е. Литвинской<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->. В них фрагментарно отражены спектакли Г. Мацкявичюса и содержатся элементы анализа драматургии и языка «пластической драмы».
Как источник сведений об истории студийного театрального движения в СССР в процессе исследования использовано издание «Любительское художественное творчество в России ХХ века»<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->. Опубликованные здесь статьи (в частности, А. Часовниковой<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]-->) по сути представляют собой подробные обзоры, содержащие анализ социокультурной ситуации, отражающие динамику роста и жанровые особенности репертуара самодеятельных студий пантомимы 1950-х – 1990-х гг.
Методическая работа Э. Савукинайте (актрисы Каунасской студии пантомимы, затем – преподавателя факультета искусств Клайпедского университета)<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]--> также содержит элементы театроведческого анализа и является достаточно подробным источником (на сегодняшний день едва ли не единственным) сведений об истории, тренинговом процессе и методе создания спектаклей в коллективе под руководством М. Тенисона.
Научные работы, в разной мере затрагивающие творчество Г. Мацкявичюса, начали появляться только после 2000 г. Е. В. Юшкова в своей монографии «Пластика преодоления. Краткие заметки об истории пластического театра в России в ХХ веке»<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]-->, созданной на основе диссертационного исследования<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]-->, опирается на обширную литературу (от теоретических статей С. М. Волконского в журнале «Аполлон» начала ХХ в. до наследия практиков театра, искавших новые пути на территории сценической пластики: Вс. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, М. А. Чехова, позже Г. М. Абрамова и др.), и критическую рефлексию «театрально-пластических» процессов конца ХХ в. Юшкова рассматривает пластический театр как «специфический жанр театрального искусства, который зародился в начале ХХ века и окончательно сформировался в России в 70–80-х годах ХХ века»<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]-->, относя к нему спектакли Г. Мацкявичюса, послужившие побудительным мотивом для ее исследования. Театру пластической драмы в монографии отведены три главы из восемнадцати. Творчество Мацкявичюса рассматривается в них обзорно, без подробного анализа спектаклей.
Н. Ф. Бабич в своей диссертации предпринимает попытку классифицировать и проанализировать некоторые аспекты творчества Г. Мацкявичюса с точки зрения теории музыки. Контекст «пластической драме» Мацкявичюса составляют спектакли П. Бауш, А. Прельжокажа, С. Вальц, М. Эка и др., которые автор считает возможным классифицировать как произведения «музыкально-пластического театра»<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]-->, оставляя за рамками исследования «чистые жанры» пантомимы, балета, цирка и др. Здесь безусловную ценность представляют выявление композиционных принципов взаимодействия музыки и движения в спектакле Г. Мацкявичюса и суждение о «неединой целостности»<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]--> как одном из важнейших характерных качеств произведений музыкально-пластического театра. Так же как и Е. В. Юшкова, Н. Ф. Бабич высказывает мысль о появлении в 1970-х гг. «особого типа пластической лексики, новых форм взаимодействия пластики с музыкой, изменившейся трактовки роли музыки в спектакле»<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]-->. Характерная черта обеих диссертаций – настойчивое стремление авторов к выработке специальной терминологии, позволяющей ввести понятие «пластический театр» в научный обиход.
В диссертации Т. Ю. Смирнягиной имя Г. Мацкявичюса упоминается лишь единожды в связи с привнесением в театральную практику 1970-х гг. нового качества «зрелища пластического, многоуровневая структура которого позволяет одновременное сосуществование в ткани спектакля мифологической реальности и реальности ассоциативно-философской»<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]-->.
Наиболее близка к теме диссертации работа М. М. Ячменевой «Поэтика театра пластической драмы Г. Мацкявичюса»<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]-->. Автор – критик балета, практик театра, преподаватель актерского мастерства Московской государственной академии хореографии. Опираясь на личный практический опыт, публикации в периодической печати, театроведческую и культурологическую литературу, автор называет самым важным источником ранее не публиковавшиеся записи бесед, сделанные во время обучения в мастерской Г. Мацкявичюса и работы под его руководством в Театре «Октаэдр»<!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]-->. М. М. Ячменева уделяет максимальное внимание сценарной драматургии Г. Мацкявичюса, мировоззренческим категориям<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]-->, выраженным в творчестве режиссера, и таким его аспектам, как «философия образа»<!--[if !supportFootnotes]-->[19]<!--[endif]-->, «архетипы пластической драмы»<!--[if !supportFootnotes]-->[20]<!--[endif]-->, «символика движения»<!--[if !supportFootnotes]-->[21]<!--[endif]-->. Рассматривается «психо-физическая концепция»<!--[if !supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]--> театра Мацкявичюса, преимущественно в этико-философском ключе, как восходящая к аналитической психологии К. Г. Юнга в сопоставлении с научно-теоретическими изысканиями самого художника. М. М. Ячменева также признает «пластические драмы» Г. Мацкявичюса уникальным новаторским явлением, избирая предметом исследования только спектакль «Красный конь». Подробного рассмотрения сценической материи спектаклей 1973–1989 гг. работа не содержит, ограничиваясь лишь перечислением их в хронологии. Между тем, без пристального исследования художественной формы произведений Мацкявичюса, созданных в годы расцвета Театра пластической драмы и крайне скупо отраженных современной критикой, невозможно считать этот феномен полноценно введенным в обиход театроведения. Данная диссертация призвана восполнить этот существенный пробел.
Теоретическую базу исследования составили труды практиков и теоретиков театра (С. М. Волконского, А. Б. Дрознина, Е. В. Марковой, А. А. Румнева, И. Г. Рутберга и др.), касающиеся вопросов истории, теории и развития пантомимы и пластического театра, одного из продуктов этого развития<!--[if !supportFootnotes]-->[23]<!--[endif]-->, случаев ее применения в практике режиссерского театра (Э. Барба, Д. Годер, К. С. Станиславский, А. Я. Таиров и др.)<!--[if !supportFootnotes]-->[24]<!--[endif]--> и вопросов природы театра в целом (Ю. М. Барбой, В. Е. Хализев и др.) <!--[if !supportFootnotes]-->[25]<!--[endif]-->.
Так как «пластическая драма» Г. Мацкявичюса ставит перед исследователем ряд вопросов, выходящих за рамки науки о театре, в список литературы вошли труды по психологии и философии искусства (Л. С. Выготский, В. В. Кандинский)<!--[if !supportFootnotes]-->[26]<!--[endif]-->, лингвистике (М. М. Бахтин, Я. Э. Голосовкер, В. Я. Пропп, А. М. Пятигорский др.)<!--[if !supportFootnotes]-->[27]<!--[endif]-->, работы психологов (М. А. Эткинд, К. Г. Юнг и др.)<!--[if !supportFootnotes]-->[28]<!--[endif]-->.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в курсах лекций по истории русского театра и пантомимы ХХ в. и для дальнейшего изучения феномена «пластических драм» и творчества Г. Мацкявичюса в целом. Диссертация также может быть полезной для практиков сцены, чьи интересы лежат в области пластического театра, и преподавателей сценического движения высшей театральной школы.
Апробация исследования. По теме диссертации с 2009 г. автором опубликован ряд статей, в которых анализируются различные аспекты творчества Г. Мацкявичюса. На научной аспирантской конференции в СПбГАТИ (2011) и II Международной научно-практической конференции в АПРИКТ (2013, Москва) были сделаны доклады (по теме диссертации и непосредственно примыкающей к ней проблематике языка современного пластического театра). Обсуждение диссертационного исследования проходило на заседаниях кафедры русского театра Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, включающего более 160 источников на русском языке и три на иностранных (английском, литовском и французском), а также 14 приложений (хронология режиссерской деятельности Г. Мацкявичюса, буклет Каунасской студии пантомимы, программки спектаклей Театра пластической драмы, информационный листок Театра «Октаэдр», материалы из личного архива автора диссертации).
Во Введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, формулируются цели и задачи исследования, его методологические принципы, анализируется литература вопроса.
Обзорно характеризуются особенности формирования основ российской пластической режиссуры в период становления режиссерского театра (в связи с опытами режиссеров-основоположников Вс. Э. Мейерхольда, К. А. Марджанова, А. Я. Таирова и др.) и причины упадка этого вида сценического формотворчества в период «социалистического реализма» с его идеологическими канонами (когда пантомима находилась на «периферии» театрального пространства, долгие годы сохраняясь лишь в области советской эстрадной и цирковой эксцентрики).
Параллельно рассматриваются особенности становления европейской пластической режиссуры в контексте деятельности Этьена Декру, создателя теории современной пантомимы и школы «mime pur»<!--[if !supportFootnotes]-->[29]<!--[endif]-->. Из школы Декру вышла плеяда театральных деятелей, оказавших решающее влияние на формирование театрального языка во второй половине ХХ в. (Ж.-Л. Барро, Дж. Стрелер, Е. Гротовский, П. Брук, М. Бежар и др.). Среди них – мим, режиссер и педагог Марcель Марсо, чье влияние стало одним из самых ощутимых для развития пластического театра своего времени, а также послужило толчком для возникновения «пантомимического бума» в СССР конца 1950-х – начала 1980-х гг. Кратко характеризуется театрально-историческая и социокультурная ситуация, в которой происходило развитие искусства пантомимы на территории СССР в период с конца 1950-х до начала 1970-х гг. и появились предпосылки возникновения «пластических драм» Мацкявичюса.
Акцент делается на особенностях проявления упомянутого «бума» в республиках Прибалтики, где было сильно влияние западной культуры, философии, европейского экспериментального студийного движения (в отличие от преобладавшей в СССР традиции эстрадных и цирковых мастеров). Специфика «интеллектуальной» прибалтийской пантомимы ярко проявилась, в частности, в спектаклях Каунасской студии пантомимы под руководством М. Тенисона, где получил свой первый театральный опыт в качестве актера-мима Г. Мацкявичюс.
Введение касается проблем терминологии, непосредственно связанных с объектом исследования – «пластическими драмами». Словосочетание, которое появилось впервые в обиходе русской критики, благодаря Ю. Л. Слонимской<!--[if !supportFootnotes]-->[30]<!--[endif]--> (употребившей его по отношению к балетам Ж. Ж. Новерра), и максимально популяризированное именно в связи с деятельностью Г. Мацкявичюса, на сегодняшний день не имеет статуса академического термина. Среди причин, обусловливающих отсутствие терминологической конкретики по отношению к спектаклям Г. Мацкявичюса и пластическому театру в целом, названы:
- активное развитие режиссерского театра как авторского искусства, зачастую стремящегося к слиянию жанров, заимствованию выразительных средств и приемов у «смежных искусств» и созданию произведений на основе их синтеза;
- отсутствие у современной пантомимы академической школы и, как следствие, отсутствие у театроведения и театральной критики методологии описания и анализа пластических жанров, рассматривающихся как «периферийное» по отношению к драматическому театру явление сценической практики.
Первая глава диссертации: «Гедрюс Мацкявичюс – актер, режиссер, педагог. Этапы становления». Выделяются два этапа: первый, 1967–1971 гг. – работа в Каунасской студии пантомимы под руководством М. Тенисона. Второй – 1971–1977 гг. – учеба на режиссерском курсе М. О. Кнебель в ГИТИСе и начало работы режиссера в любительской студии пантомимы ДК Института атомной энергии им. И. В. Курчатова в Москве.
Раздел 1.1. Рассматривается становление Мацкявичюса как актера-мима в контексте специфической ситуации формирования языка литовской пантомимы, для которой основополагающим стало творчество Модриса Тенисона<!--[if !supportFootnotes]-->[31]<!--[endif]-->. Художник-график, выпускник Рижской академии художеств, Тенисон в течение четырех лет был актером самодеятельного ансамбля «Ригас пантомима» под руководством Роберта Лигерса (одного из первых и самых сильных пантомимических коллективов в СССР). Разойдясь в понимании задач пантомимы со своим учителем Лигерсом (драматическим артистом по образованию), Тенисон набрал собственную студию (из абсолютных неофитов), которая, работая при каунасском Музыкальном театре, получила профессиональный статус. Коллектив проработал в Каунасе пять лет и оказал заметное влияние на формирование языка прибалтийской пантомимы, привнеся глубокую философскую проблематику в сферу советского студийного пластического театра. Руководствуясь в интуитивно-изобразительных поисках собственного движенческого языка синтетическими опытами М. К. Чюрлениса, стилевыми приемами М. Марсо, радикальными экспериментами Е. Гротовского, графической пластикой спектаклей Г. Томашевского, Тенисон постигал действенную природу пантомимы через обнаружение общего в природе пластических искусств.
Исследование рассматривает педагогический метод М. Тенисона, в котором одно из центральных мест занимает воспитание разносторонне развитого, активно мыслящего актера. Приоритет авторского начала здесь компенсировал недостаток технической оснащенности, помогал создавать на сцене впечатляющие образы вне общепринятых параметров драматической или хореографической школы. Часть раздела посвящена актерам студии, отражению их работ в критике и более подробно Мацкявичюсу-актеру (в 1968 г. получившему звание «Лучшего мима Прибалтики» на I фестивале прибалтийских коллективов пантомимы в Риге).
Стилевые особенности, метод создания и пластическая драматургия спектаклей Каунасской студии пантомимы рассматриваются достаточно подробно. Особое место в диссертации отведено спектаклю «Каприччос ХХ века», в большой ансамблевой форме которого осуществилась наиболее ярко и полно эстетическая и философская программа Тенисона. Мотивы «Каприччос», аллегорически повествовавшие о конфликте героя-Скульптора и обывательского социума, у Мацкявичюса позже трансформируются в главную режиссерскую тему (миф о судьбе Художника), а некоторые из композиционных приемов этого спектакля лягут в основу постановочного почерка автора «пластических драм».
Отмечаются первые режиссерские опыты Г. Мацкявичюса в самодеятельном «Литературном театре», приведшие к неудачам и убедившие его в необходимости серьезной профессиональной подготовки.
Раздел 1.2 характеризует влияние высшей школы режиссуры, соприкосновения с русской театральной культурой и ее широким контекстом на формирование художественного сознания Г. Мацкявичюса. Выявляются связи творческого метода создателя «пластических драм» с положениями Системы К. С. Станиславского (связанными с понятием «телесный аппарат воплощения» и осознанием его как материального носителя актерского искусства). Опора на наследие создателя Системы стала одним из тех факторов, благодаря которым Г. Мацкявичюс смог прийти к собственному пониманию законов создания драматургии пластического текста, материализующего внутренний монолог героя.
Исследуется параллельное влияние аналитической психологии К. Г. Юнга на становление Мацкявичюса-режиссера. Свою тягу к метафорическому, обобщенному типу художественного высказывания Г. Мацкявичюс считал характерной чертой национального литовского мироощущения, развитого и укрепленного в нем работой под руководством М. Тенисона. Очевидно для осознания этой стороны своего творческого мышления и воплощения ее в сценических опытах Мацкявичюс обратился к наследию Юнга, содержащему объемный опыт изучения мифологии народов мира, морфологии ее образно-символических форм. Делается вывод о том, что теория архетипов служила режиссеру «пластических драм», наравне с методом действенного анализа, одним из инструментов освоения материала, позволявшего выстраивать драматургию сценического текста по мифологическому типу (содержащему в своей основе и универсальную событийную структуру, и типологию персонажей).
Раздел 1.3. Предметом анализа становится педагогическая деятельность Г. Мацкявичюса, начавшаяся в годы учебы в ГИТИСе (в рамках руководства коллективом любителей пантомимы при ДК Института атомной энергии им. Курчатова). Выявляются принципиально сходные черты методов Мацкявичюса и Тенисона в области воспитания актера с развитым импровизационным воображением и широким диапазоном пластических возможностей. Выдвигается тезис о поиске новых принципов пластической выразительности актера как ведущем направлении экспериментального творчества Мацкявичюса.
В финале главы делается вывод о том, что основы русской театральной школы в сочетании с каунасским опытом формотворчества способствовали яркому началу деятельности Г. Мацкявичюса, еще на студийном этапе коллектива (1975–1977 гг.) создавшего спектакли, которые привлекли внимание московской публики и театральной общественности.
Вторая глава «Студийные режиссерские работы Г. Мацкявичюса. Рождение “пластической драмы”» исследуются посвящена исследованию спектаклей, выпущенных в студии пантомимы ДК им. Курчатова, вопросы создания их драматургии и формирования пластической лексики. Анализируется критическая рефлексия (наиболее активная в этот период). Рассматриваются попытки ввести в обиход театроведения понятие о «пластической драме» в контексте характерного для эпохи «смены режиссерских форм»<!--[if !supportFootnotes]-->[32]<!--[endif]--> пристального интереса к зрелищным компонентам спектакля и упомянутого выше «пантомимического бума», отражавшегося в росте числа самодеятельных студий по всей стране.
Раздел 2.1. Предметом анализа становится спектакль «Преодоление» (1975), посвященный 500-летию Микеланджело. «Драматическая пантомима» (такова была первая формулировка жанра) открыла программную трилогию о судьбе Художника (к ней режиссер, которого глубоко интересовала психология и философия творчества, относил появившиеся позднее спектакли «Красный конь» и «Глазами слышать – высший ум любви…»).
В аспекте исследования особенностей языка первого большого спектакля Г. Мацкявичюса акцентируется использование в сценическом тексте лексикона различных движенческих практик (от «принципов идентификации» пантомимы Декру–Марсо до композиционных находок «аллегорической пантомимы» Тенисона, от приемов сценического боя до стилизованных элементов исторического танца и т. д.). Актеры-непрофессионалы в сценическом сюжете, опиравшемся на мотивы произведений Микеланджело (скульптур и фресок), биографические, исторические и искусствоведческие источники, продемонстрировали эмоционально накаленный, не похожий ни на один из привычных зрительскому глазу рисунок ролей. Как характерные особенности режиссерского почерка Г. Мацкявичюса, сформировавшиеся уже в процессе постановки «Преодоления», отмечаются: создание иллюзорно массовых сцен с малым количеством исполнителей; «кинематографические» приемы рапида, ассоциативного монтажа эпизодов, крупного плана; лаконичная многофункциональная сценография (художник П. Сапегин); компилятивный музыкальный ряд.
Затем рассматривается метод создания сценического текста спектаклей Г. Мацкявичюса, также сформированный в работе над «Преодолением», выявляются его последовательные этапы, ставшие традиционными для всех последующих «пластических драм»<!--[if !supportFootnotes]-->[33]<!--[endif]-->: глубокое погружение всей творческой группы в исторический, иконографический, искусствоведческий, музыкальный материал; его режиссерская архетипическая трактовка сюжета и определение его «опорных точек» методом действенного анализа; освоение материала и поиск адекватного ему пластического языка в этюдной работе; формирование сценического текста путем отбора наиболее выразительных и эмоционально насыщенных фрагментов-этюдов; преобразование невербального рисунка спектакля в ассоциативно фиксирующий его эмоциональное и философское содержание литературный сценарий.
Раздел 2.2 рассматривает спектакли, основой для которых послужил поэтический материал: пьеса П. Неруды «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и поэма А. А. Блока «Двенадцать». Выдвигается тезис о том, что пластическая интерпретация источников в этих постановках опирается на мифологическую трактовку внутреннего конфликта героя, проявляющегося в выборе между любовью к «земной» женщине и мистическим влечением к разрушительной ипостаси Женственности (персонифицированная Смерть для Хоакина и Дева-Революция для блоковского Петрухи). Сравнительный анализ двух названных спектаклей позволяет сделать выводы о принципиальной эклектичности языка «пластических драм» как концептуальной составляющей экспериментальной режиссуры Мацкявичюса.
Третья глава «Театр пластической драмы» посвящена анализу спектаклей, выпущенных после присвоения коллективу под руководством Г. Мацкявичюса статуса профессионального Ансамбля пантомимы Московской областной филармонии<!--[if !supportFootnotes]-->[34]<!--[endif]--> в 1978 г. Предметом анализа здесь становятся: вопрос терминологического обоснования «пластической драмы» самим Мацкявичюсом («драма – значит, есть драматургия, есть конфликт, есть разработка характеров, отношений… И все это выражено через пластические средства»<!--[if !supportFootnotes]-->[35]<!--[endif]-->); проблема героя «пластической драмы»; особенности существования актера в спектаклях этого жанра (на примере работ В. Ананьева, С. Лобанкова, Л. Поповой, С. Цветкова); проблемы пластической интерпретации произведений поэзии, прозы, литературной сказки, изобразительного искусства и др.; причины закрытия Театра пластической драмы.
Раздел 3.1 рассматривает спектакль по мотивам сказок Г. Х. Андерсена «Времена года» (1979) как предшествующее программному «Красному коню» обращение к функции героя-«искателя»<!--[if !supportFootnotes]-->[36]<!--[endif]-->. Анализ стиля и лексики спектакля приводит к выявлению в нем автобиографических мотивов, ассоциативно укорененных в контексте литовской культуры, а также характерной для советского балета того же времени тенденции обращения к литературным источникам (например, в произведениях Н. Н. Боярчикова и Л. В. Якобсона). Отмечается драматургический характер раскрытия музыкальных тем А. Вивальди, К. В. Глюка, К. Дебюсси, И. С. Баха в мизансценическом рисунке и актерских работах.
Раздел 3.2 посвящен подробному исследованию спектакля «Красный конь» (1981) на основе автобиографической прозы К. С. Петрова-Водкина и произведений живописи XIX–XX вв.
Анализируется драматургия сценического сюжета «Красного коня», где герой-Художник в поисках собственного пути проходит через концептуальные эстетические перипетии века. На материале сценического текста спектакля подробно рассмотрены: архетипическая организация сюжета, тяготеющего к современному мифу; приемы заимствования режиссером принципов живописной композиции; влияние выразительных средств и стилевых особенностей картин-первоисточников на пластику и эмоциональные характеристики сценических персонажей спектакля.
В Разделе 3.3 анализируется по имеющимся источникам ряд экспериментальных постановок Г. Мацкявичюса, в которых он предпринимал (часто – с небезупречным результатом) попытки перевода на язык «пластической драмы» произведений разных видов искусств. Среди них: «Блеск золотого руна» (по мотивам античной мифологии, 1980), «Баллада о Земле» (по мотивам русской поэзии, 1981), «Желтый звук» (на музыку А. Г. Шнитке по либретто В. В. Кандинского, 1984), «И дольше века длится день…» (по мотивам романа Ч. Т. Айтматова «Буранный полустанок», 1984), «Сад» (по мотивам цикла гравюр С. Красаускаса на музыку А. Рекашюса, 1985).
Отмечено, что режиссер шел на сознательный риск, принимаясь – по его собственным словам – за разработку «форм и средств выразительности, остававшихся ранее в тени или не игравших сколько-нибудь заметной роли в общей системе сценических искусств»<!--[if !supportFootnotes]-->[37]<!--[endif]-->, предпринимая попытки к решению этих задач в рамках эстетики своего театра. Делается вывод о том, что эксперименты Мацкявичюса по «преодолению материала художественной формой»<!--[if !supportFootnotes]-->[38]<!--[endif]--> представляют собой объемный, не имеющий современного аналога опыт поиска и освоения на театральной сцене принципов выразительности, общих для различных видов искусств.
Раздел 3.4 рассматривает последнюю «пластическую драму», выпущенную Г. Мацкявичюсом в созданном им Театре пластической драмы, «Глазами слышать – высший ум любви…» (1987). Спектакль на материале цикла сонетов У. Шекспира, в которых режиссером был выявлен целостный сюжет – отчасти аллегорический, отчасти автобиографический – замкнул программную трилогию о судьбе Художника.
Отмечены особенности процесса создания спектакля, отличавшиеся от традиционных для театра Г. Мацкявичюса: в частности, появление литературного сценария, написанного белым стихом, до начала коллективной этюдной работы над материалом<!--[if !supportFootnotes]-->[39]<!--[endif]-->. Не случайным представляется языковой контраст между прологом (стилизованным под итальянскую комедию масок), и основным действием (где пластические метафоры повествуют о трагической борьбе Поэта со Временем, навязывающим ему шутовской колпак), отражающий мотивы внутреннего конфликта самого режиссера. Прослеживаются очевидные в драматургии спектакля темы «Преодоления» (Страшного суда, который вершит Художник над современниками; шутовства, здесь утратившего свою стихийно-пророческую природу, ставшего знаком низкого фиглярства, порабощенности таланта социумом) и каунасских «Каприччос ХХ века». Предлагается прочтение текста шекспировского спектакля как сложносочиненного мифа, рассматривается семантика образов, особенности пластического взаимодействия персонажей и ряд проблемных элементов спектакля.
Выдвинуты тезисы: о готовности Г. Мацкявичюса в конце 1980-х гг. к выходу на этап систематизации накопленного опыта и его передачи за пределы Театра пластической драмы; о невозможности продолжения этого эксперимента в силу обострившегося в коллективе внутреннего творческого и административного кризиса, а также объективных внешних социально-экономических факторов. Рассмотрены причины ухода Мацкявичюса из Театра пластической драмы в 1989 г. и его последующего закрытия в 1992-м.
В Заключении диссертации предлагается терминологическое обоснование «пластической драмы» как широкого определения разновидностей ансамблевой пантомимы (наряду с другими определениями подобного рода: «мимодрама», «аллегорическая пантомима» и т. п.), позволяющее оправдать отсутствие в них вербального общения между персонажами.
Г. Мацкявичюс продолжил начатые М. Тенисоном попытки расширить жанровые границы пантомимы и добился несомненно успешных художественных результатов в создании нового типа пластического спектакля большой формы, жанр которого сам он определял как «пластическую драму». Предлагается считать «пластические драмы» Г. Мацкявичюса уникальным новаторским явлением эпохи советского театра, практически воплощенной и теоретически обоснованной режиссерской системой включающей: ряд постановок, осуществленных по общим принципам сценической выразительности; наличие авторской актерской школы; теоретические разработки, оставленные режиссером в рукописях.
Определенные в результате исследования характерные черты авторского режиссерско-постановочного метода Г. Мацкявичюса таковы:
- Создатель «пластических драм» максимально синтезировал функции режиссера и драматурга, на определенном этапе переводя процесс в поле коллективного творчества, оставляя за собой роль безусловного координатора, отбирающего и компонующего символически выразительные слагаемые будущего сценического полотна. Композиция сценария «пластических драм» объединяла материалы-первоисточники по принципу поэтического текста с ассоциативным типом связей и метафорическим образным рядом, предназначенным для воплощения средствами актерской пластики. Принципы создания такого «преддраматургического текста» Г. Мацкявичюс выработал, опираясь на собственную практику актера-мима, наследие русской театральной школы и открытия аналитической психологии ХХ в. Сценический и драматургический текст «пластических драм» создавался синхронно в этюдном процессе, опиравшемся на пунктирно намеченную до начала репетиционного этапа основу драматургической концепции и результаты глубокого коллективного погружения в материал – первооснову замысла. Литературный сценарий в данном случае становился финальным, а не исходным этапом.
- Центральное место среди выразительных средств «пластической драмы» занимал актер – творец и исполнитель, владеющий обширным спектром пластических навыков, тренированным пространственным мышлением и способностью к работе в поле «коллективного творческого сознания». При всей важности масштабного архетипического образа, стоящего в центре «пластической драмы», ее действенным и композиционным принципом является именно ансамблевая композиция, в которой нет ни второстепенных ролей, ни «кордебалета», ни статистов.
- В этой связи особенно значим педагогический метод Г. Мацкявичюса, создавшего свой театр из коллектива любителей с разноуровневым типом движенческой подготовки, для которых руководитель студии был вынужден изобретать универсальные тренинговые принципы, одновременно направленные на развитие пространственного мышления, постановочного воображения, художественного вкуса и интеллектуального роста. Постановочный стиль режиссера сформировался в условиях, когда мизансценический рисунок, жест и поза должны были быть максимально четко продуманы, чтобы стать адекватной задачей для артиста-непрофессионала. При этом фактически ни одна «пластическая драма» (даже в студийный период) не создавалась без освоения новых для актерского коллектива элементов пластической азбуки. Принципиальным для формирования языка «пластической драмы» стал и тот фактор, что тренинг физических навыков в студии Г. Мацкявичюса с самого начала происходил без отрыва от тренинга пластического мышления, которым становилась одновременная работа над спектаклями.
- Выросшая в недрах студийного движения, будучи явлением почти андеграундным, «пластическая драма» Г. Мацкявичюса воплотила в себе некоторые из лучших в идейном и художественном смысле черт официального советского искусства (и в этом одна из важнейших заслуг режиссера, сумевшего вывести к высокохудожественному уровню изначально студийное явление). «Масштабность» и «общечеловечность» выдающихся театральных произведений (от «Мистерии-Буфф» Вс. Э. Мейерхольда до «А зори здесь тихие» Ю. П. Любимова и т. д.) преломилась особым образом в творчестве Мацкявичюса, рассматривавшего судьбу своего героя как сюжет с системой универсальных мифологических связей.
- Характерные черты режиссерской лексики Г. Мацкявичюса, проявившиеся уже на студийном этапе его деятельности и сохранившиеся впоследствии: монументальный стиль композиции «пластических драм», неизменно предполагавших наличие «четвертой стены»; мизансцены, рассчитанные на фронтальное восприятие общего плана и выполняющие роль несущей конструкции в визуальном рисунке спектакля; несомненно тяготеющие к кинематографичности приемы «монтажа», «полиэкрана» и «рапида»; многофункциональность приемов (то же качество присуще и сценографии «пластических драм», где декорационные элементы трансформируются в зависимости от обстоятельств сюжета).
В результате исследования также делается принципиальный вывод: «пластическая драма» как сценическая форма прежде всего служила выражению мировоззрения своего автора, имела обязательную «философскую сверхзадачу». Этим во многом была обусловлена художественная целостность произведений Г. Мацкявичюса, где драматический конфликт неизменно лежал в архетипической области, а формально эклектичные слагаемые спектакля (язык, заимствовавший элементы разнообразных движенческих техник; компилятивный музыкальный ряд; широкий спектр произведений смежных искусств, служивших первоисточниками для сценариев) были организованы по архитектоническому принципу, предполагающему смысловую целостность художественной формы.
- Эклектичность движенческого языка «пластической драмы» была обусловлена рядом объективных причин. Прежде всего – экспериментальным характером творчества Г. Мацкявичюса, направленного на освоение пластических возможностей актера и решение драматургической проблемы в том виде театра, который он избрал для выражения своих идей. Затем – отсутствием в СССР академической школы пантомимы, которое Г. Мацкявичюсу приходилось преодолевать, создавая описанную выше авторскую методику. В результате – эклектичность оставалась неизменной чертой языка «пластической драмы», и нет оснований считать его окончательно сформированным в качестве фиксированной системы движенческой лексики.
Тем не менее, подробный театроведческий анализ, предпринятый в данном исследовании, позволяет сделать вывод и о том, что сегодня формальную эклектичность языковых средств в спектаклях Г. Мацкявичюса следует рассматривать как прием пластической режиссуры, отражающий дискретный характер сценического текста, организованного по мифологическому типу.
Слагаемые авторского стиля режиссуры «пластических драм» Г. Мацкявичюса следует считать новаторскими по отношению к пластическому театру своего времени, для которого они были так же нехарактерны, как и большая форма спектаклей с законченным драматургическим сюжетом.
Публикации автора по теме диссертации
в ведущих научных изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:
- Константинова А. В. Воспитание актера в театре пластической драмы Гедрюса Мацкявичюса // Вопросы театра / Proscaenium. – 2012. – № 3-4. – С. 166-178. (0,6 п.л.)
в других изданиях:
- Константинова А. В. О творческом методе Гедрюса Мацкявичюса. Спектакль «Преодоление» (1975 г.) // Театрон. – 2010 – № 1 – С. 44-50. (0,6 п.л.).
- Константинова А. В. Не все визуальное просто // Петербургский театральный журнал – 2010 – № 4 – С. 197-200. (0,3 п.л.)
- Константинова А. В. Воспитание актера в театре пластической драмы Гедрюса Мацкявичюса // Феномен актера: профессия, философия, эстетика. Материалы пятой научной конференции аспирантов 2011 года. – СПб : СПГАТИ, 2011. – С. 54-60. (0,6 п. л.)
- Константинова А. Театр «HAND MADE»: история, язык, метод // Академия пантомимы: теория и практика. / Сб. статей. Отв. ред. Е. В. Маркова, Т. Ю. Смирнягина. – М. : Миттель Пресс, 2011. – С. 85-91. (0,4 п. л.)
- Константинова А. В. От человека к человеку: Модрис Тенисон и пять лет Каунасской студии пантомимы // Театрон. – 2013. – № 1. – С. 53-71. (1,4 п. л.)
- Константинова А. В. Пять лет поиска: Каунасская студия пантомимы под руководством М. Тенисона // Академия пантомимы: теория и практика. / Материалы II Международной научно-практической конференции «Эра пантомимы. Лаборатория изучения евразийской театральной культуры XX-XXI вв.». – М. : АПРИКТ, 2014. [в производстве]. (0,4 п. л.)