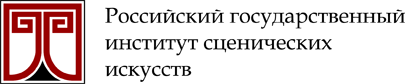Диссертация
Тропп Е.Э. «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» Э. РОСТАНА И РУССКИЙ ТЕАТР
Тропп Евгения Эдуардовна
«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» Э. РОСТАНА И РУССКИЙ ТЕАТР
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
Специальность 17.00.01 — Театральное искусство
Работа выполнена на кафедре русского театра федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства»
Научный руководитель — доктор искусствоведения, профессор Барбой Юрий Михайлович
Официальные оппоненты: доктор искусствоведения, профессор Бартошевич Алексей Вадимович; кандидат искусствоведения Некрылова Анна Федоровна
Ведущая организация: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов»
Защита состоялась 18 марта 2010 г. в 15.00 час. на заседании Диссертационного совета Д 210.017.01 в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства по адресу: 191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 35, ауд. 512.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии (Моховая ул., д. 34)
Ученый секретарь Диссертационного совета кандидат искусствоведения Некрасова И.А.
Борьба за самостоятельность театрального искусства, которую упорно и успешно вел в ХХ веке новый автор спектакля, режиссер, поляризовала различные взгляды на значение и роль пьесы и драматурга, с одной стороны, и актера и режиссера, с другой, и обострила спор между сторонниками литературоцентристских и театроцентристских воззрений. Вновь столкнулись представления о пьесе как единственном источнике театральных смыслов и идея полного театрального суверенитета.
В 1970-е годы были предприняты попытки снять предмет дискуссии и предложить не столько компромиссную, сколько лояльную концепцию. Весьма характерным для театроведческой мысли тех лет было, например, заглавие книги А.М. Смелянского, посвященной постановкам классики на тогдашней советской сцене: «Наши собеседники»1.
В этом контексте исследование сценической истории одной пьесы, в котором основное внимание сосредоточено не только на исторических, но в первую очередь на методологических и теоретических аспектах, представляется несомненно актуальным. Такого рода исследование открывает новые ресурсы известного и разработанного драматического материала для науки о театре, но также и для сцены.
Научная новизна работы обусловлена тем, что постановки пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» на русской сцене ХХ века впервые исследуются в исторической перспективе, как самостоятельный цикл. Рассматривая историю театрального освоения пьесы по преимуществу в хронологической последовательности, автор пытается «извлечь из истории теорию», то есть обнаружить развертывание системы теоретических вариантов связи между пьесой и спектаклем. Эта система обусловлена и спецификой комедии Э. Ростана, и спецификой времени и места — русской сцены ХХ века.
Объект исследования — судьба героической комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» в русском театре ХХ века. Но этот междисциплинарный объект предстает в особом, исключительно театроведческом ракурсе. В диссертации выдвинуто положение о том, что классическая пьеса и театр проходят в своих отношениях ряд этапов, складывающихся в определенные циклы. Структура цикла русских постановок «Сирано де Бержерака» — научный предмет исследования, теоретико-театральный по преимуществу.
Цель исследования — рассмотрение взаимной связи и зависимости между двумя, казалось бы, самостоятельными историческими рядами — движением во времени самой пьесы и этапами ее сценического освоения. Пьеса «Сирано де Бержерак» анализируется одновременно и как суверенный по отношению к театру «растущий смысл» (выражение М.М. Бахтина), и как синхронический «веер смыслов», прямо или опосредованно сопоставляемый с другим - театральным - рядом.
Для осуществления этой цели автор поставил перед собой ряд конкретных исследовательских задач: 1) выбрать пьесу из числа знаковых произведений — ею и стала героическая комедия Э. Ростана; 2) выявить свойства пьесы, позволяющие ей стать знаковой; 3) рассмотреть сценическую историю пьесы в России; 4) охарактеризовать своеобразие этапов этой истории, определить связь между ними.
Б.В. Алперс писал о трагедии Шекспира «Гамлет»: «Она стала поистине русской пьесой — настолько прочно вошла в историю нашего театра, своеобразно отразив в своей сценической судьбе различные моменты в развитии общественного сознания в России»2. Почти дословно это высказывание можно применить к «Сирано де Бержераку» Эдмона Ростана (1868–1918). Эта французская пьеса имеет содержательную «русскую судьбу», ее переводы и интерпретации уже более ста лет отражают реалии и проблемы российской жизни. В свою очередь, способность героической комедии Ростана вступать в диалог с различными театральными эпохами — неоспоримое свидетельство ее художественного потенциала.
Длительная история постановок продемонстрировала богатые сценические возможности «Сирано де Бержерака». Эта пьеса в высшей степени «театральна», написаны превосходные роли. Пьеса представляет собой очевидный вызов для режиссеров и сценографов: она условна и при этом построена на мотивах, всегда жизненно важных (например, неразделенной любви); в нее заложены, как минимум, две эпохи — героя и автора (семнадцатый век и эпоха модерна), то есть она «дважды историческая», при этом у хорошего постановщика может быть и современной; в ней отчетливо звучит лирика; в ней есть увлекательный, оригинальный и при этом архетипический сюжет. Она не герметична, то есть допускает переосмысление и домысливание. У нее на редкость широкая (может быть, даже избыточная) «зрителеемкость».
Оставаясь на протяжении более ста лет репертуарной пьесой, героическая комедия Ростана прошла через все те этапы сценической эволюции, что и общепризнанно классическая западная драматургия в России. При этом она не только «наращивала смысл», как другие классические пьесы в новых постановках, но и повышала свой статус — от подозрительной то ли неоромантической, то ли вообще псевдоромантической однодневки до подлинно классической пьесы, созвучной меняющейся российской действительности, каждый раз по-новому соотносящейся со временем.
В ходе работы были выявлены основные этапы взаимоотношений «Сирано де Бержерака» и российской сцены. Дорежиссерский период (с 1898 года до начала 1920 годов); невостребованность — отсутствие пьесы в репертуаре 1920–1930-х годов; первые режиссерские интерпретации: спектакли, поставленные во время войны, сохранявшиеся в репертуаре до конца 1950-х годов и создавшие сценическую традицию истолкования пьесы; превращение пьесы в классическую влечет за собой этап резкого «осовременивания», начавшийся в 1960-е годы; в 1980-е годы отношения пьесы и театра характеризуются в основном использованием сложившейся традиции; в 1990-е годы театр предлагает новый вариант — сочинение версий, основанных на отдельных мотивах пьесы; первое десятилетие XXI века — новый виток осовременивания, появление пародий и ремейков. Сегодняшний этап характеризуется разнообразием вариантов отношений театра и пьесы, ставшей классической.
Анализируя конкретные спектакли, автор диссертации пытается дать их адекватный, насколько возможно, портрет в контексте эпохи, исследовать композицию каждого из них, при необходимости подробно останавливается на сценографии, в значительной мере определяющей стиль постановки.
Среди первых вопросов к любому исследуемому в диссертации спектаклю был вопрос о выборе перевода, поскольку существующие варианты серьезно различаются и по стилистике, и по подходу к проблематике и поэтике пьесы. Перевод — это уже начало трактовки, поэтому выбор той или версии должен указать направление мысли режиссера; нельзя также забывать о количестве и характере купюр и добавлений, сделанных уже самим постановщиком. Соответственно, сравнительный анализ переводов пьесы Ростана на русский язык оказался для диссертанта одной из существенных частных задач.
Теоретическая база исследования. Основная театроведческая литература, использованная в диссертации, ориентирована на проблему диалога пьесы и театра; в первую очередь автора интересовали работы, посвященные постановке классики на российской сцене. Сборник статей3, вышедший под редакцией А.М. Смелянского, привлек автора своей научной основательностью, отказом от публицистичности. При исследовании разных этапов взаимоотношений «Сирано де Бержерака» и русского театра диссертант опирается на книги отечественных театроведов — К.Л. Рудницкого, В.М. Гаевского, А.М. Смелянского, И.Н. Соловьевой4.
Обращение к литературоведческим трудам, работам по семиотике и культурологи позволило автору диссертации привлечь методологию и результаты сопредельных гуманитарных наук для собственно театроведческого исследования. Речь идет прежде всего о работах ученых ленинградской формальной школы (Ю.Н. Тынянов, Б.Н. Эйхенбаум5) и московско-тартуской школы (Ю.М. Лотман6).
При исследовании переводов пьесы Э. Ростана на русский язык оказалось необходимым и крайне полезным знакомство с литературоведческим анализом проблемы поэтического перевода (Е.Г. Эткинд7, М.Д. Яснов).
Основным материалом, использованным в диссертации, являются современные изучаемым спектаклям рецензии (в первую очередь в журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Московский наблюдатель», «Петербургский театральный журнал» и многих других, многочисленные газетные публикации). Ценные сведения дали автору театральные мемуары, воспоминания авторов и участников спектаклей8.
Уникальным источником, позволяющим получить представление о взаимодействии автора пьесы (в данном случае — автора перевода) и театра, является статья Ю.А. Айхенвальда9.
В разделах, посвященных постановкам «Сирано де Бержерака» последних двух десятилетий, автор опирается не только на публикации периодической печати (газетные и журнальные рецензии, обзорные и проблемные статьи, интервью создателей спектаклей), но и на собственные зрительские впечатления.
Методология исследования. Диссертационное исследование основано на выработанных отечественной театроведческой школой принципах изучения и анализа драмы и спектакля. Работа опирается на традиции ленинградской школы театроведения, для методологии которой характерны — опора на источники, обязательный учет широкого контекста, связь со смежными науками, осознанная теоретическая составляющая в исследовании исторического и современного театрального процесса.
Литература вопроса. На протяжении столетия комедия Ростана привлекала внимание исследователей и критиков как во Франции, так и в других странах, включая Россию. Обращение к трудам французских литературоведов не явилось для данной работы принципиально необходимым, поскольку, во-первых, заявленная тема предполагает изучение русской судьбы французской пьесы, а во-вторых, привлечение иностранных источников чрезмерно расширило бы рамки исследования. Творчество Э. Ростана подробно изучено в монографии В.А. Лукова10, в которой дан обзор многочисленных зарубежных источников. Понять место Э. Ростана в литературном и театральном процессе Франции помогает работа А.И. Владимировой11. Существенную роль в прояснении «проблемы Ростана» играют мемуары Ж. Ренара, Ж. Кокто, Т.Л. Щепкиной-Куперник12, дискуссионные статьи Р. Роллана13. Оригинальный современный взгляд на творчество Э. Ростана представлен в монографической статье Е.Г. Эткинда «Эдмон Ростан, поэт театральных эффектов»14. Существующий в четырех вариантах русский текст пьесы «Сирано де Бержерак» анализируется в работах И.Б. Гуляевой15. Характерный пример дискуссии, возникающей при появлении нового перевода классической пьесы, содержит давняя статья А.А. Гозенпуда16.
Существует литература по отдельным эпизодам сценической истории пьесы. При описании дорежиссерского периода существования «Сирано» на русской сцене автор диссертации опирается на монографическую статью П.Р. Заборова, опубликованную в книге «Сирано де Бержерак», выпущенной издательством «Наука» в серии «Литературные памятники»; путеводителем по «режиссерскому периоду» служит обзорная статья Л.И. Гительмана17 в том же томе «Литературных памятников».
При анализе постановок военного времени широко используются обобщающие труды, посвященные истории театров, творческому пути актеров, режиссеров и художников. Спектакль В.Н. Соловьева (Ленинградский театр им. Ленинского Комсомола, 1941 год) отражен в книге Н.А. Рабинянц, монографии В.В. Ивановой о В.И. Честнокове, «Театральных легендах» Ю.Л. Алянского18. Существует обширная литература о спектакле театра им. Е. Вахтангова (1942 год). По-прежнему представляют определенный научный интерес книги, вышедшие в 1970–1980-е годы: монография Н.А. Велеховой о режиссере Н.П. Охлопкове, книга В.И. Березкина о художнике В.Ф. Рындине19. Важное значение для анализа двух московских классических спектаклей (в театре им. Е. Вахтангова и в театре им. Ленинского Комсомола) имеет содержательная статья А.С. Поля20, посвященная сравнению игры Р.Н. Симонова и И.Н. Берсенева.
При написании раздела о спектакле театра «Сатирикон» и Театра Антона Чехова (1992 год) автором была использована книга театрального критика М. Токаревой о творческом пути Константина Райкина; в обзор литературы о спектакле театра им. Е. Вахтангова (2001 год) включена книга театрального критика М. Давыдовой «Конец театральной эпохи»21.
Практическая значимость работы. Результаты предпринятого исследования могут оказать существенную помощь как историкам русского театра ХХ века, так и теоретикам, разрабатывающим проблемы отношений между пьесой и спектаклем. Материал диссертации может быть использован в работе театроведческих семинаров как по истории театра, так и по театральной критике, в лекциях по истории театра ХХ века.
Результаты работы могут быть полезны и практикам театра (режиссерам, актерам, сценографам) при их обращении к творчеству Э. Ростана.
Апробация исследования. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры русского театра СПбГАТИ.
Автором опубликован ряд статей по теме диссертации, среди которых обзорно-проблемные исследования интерпретаций пьесы, рецензии на спектакли по пьесе «Сирано де Бержерак».
В докладе на конференции «Цветаева, ее эпоха и современный театр», посвященной 115-летию со дня рождения М.И. Цветаевой (РИИИ, Санкт-Петербург, ноябрь 2007 г.), освещалась тема переводов пьесы Ростана на русский язык.
Структура работы: диссертация состоит из Введения, шести глав, Заключения, Списка использованной литературы (201 название) и Приложений, посвященных некоторым частным, но важным для понимания поэтики пьесы Э. Ростана «Сирано де Бержерак» вопросам: 1. Ринософия «Сирано». 2. Действие в пьесе. 3. Как написаны роли.
Работа открывается развернутым Введением. В разделе 1 определены предмет и цели работы, намечен общий характер исследования, задан угол зрения, определивший отбор материала и способы работы с этим материалом. В разделе 2 «Идолопоклонник свободы» представлен исторический Сирано де Бержерак (1619–1655), послуживший прототипом заглавного героя пьесы. В третьем разделе Введения «Сотворение легенды» описываются истоки зарождения легенды о Сирано де Бержераке, трансформированной Э. Ростаном в уникальный сюжет его героической комедии и, наряду с историческим пластом, составляющей автономный мотив пьесы. Одним из авторов, положивших начало этой легенде, является друг Сирано — Анри Лебре (1618–1679) В Предисловии22 к посмертному изданию сочинений Бержерака Лебре описывает его духовное перерождение, произошедшее в конце жизни (бывший безбожник обратил свои помыслы к религии). Автор диссертации обращает внимание на жанр Предисловия — это не столько биография, сколько защитительная речь, причем свою апологию Сирано его друг строит по агиографической схеме — по канону «раскаявшийся грешник». В разделе 4 «Гаврош романтизма» воссоздается творческий и психологический портрет автора пьесы «Сирано де Бержерак», определяется его место в литературном и театральном процессе его времени, определяется степень традиционализма и новаторства Э. Ростана в области французского стихосложения и французской драматургии. В последнем разделе Введения в русле современной теории перевода исследуются существующие переводы пьесы на русский язык: Т.Л. Щепкиной-Куперник (1898 г.), В.А. Соловьева (1938 г.), Ю.А. Айхенвальда (1964 г.), Е.В. Баевской (1985 г.).
Глава 1: «Первые этапы сценической истории “Сирано де Бержерака” в России». В разделе 1.1 «Серебряный век “однодневки”» описываются первые двадцать два года жизни «Сирано» на русской сцене, период, когда пьеса была современной и осваивалась актерским театром. Именно на этом этапе, с точки зрения диссертанта, сложились некоторые традиции, с которыми театру приходилось иметь дело в дальнейшем. Среди них — представления о том, что пьеса в первую очередь и главным образом — кладезь выигрышных ролей, о декламационности как неизбежной стороне (и пороке) заглавной роли, о сугубой (и поверхностной) эффектности фигур и сюжетных положений.
Парижская премьера «Сирано де Бержерака» состоялась в театре «Порт-Сен-Мартен» в декабре 1897 года (в заглавной роли выступил выдающийся актер Бенуа-Констан Коклен-старший (1841–1809)). В январе 1898 года пьеса была издана на родине, и уже в феврале была сыграна российская премьера. Как и другие произведения Ростана, «Сирано» поднялся на подмостки российского театра в качестве бенефисной пьесы. Постановку в театре Литературно-артистического кружка (Суворинском) осуществляли бенефициантка Л.Б. Яворская вместе с переводчицей Т.Л. Щепкиной-Куперник. В 1915 году к героической комедии Ростана обратился крупный режиссер — А.Я. Таиров, но и его спектакль в Камерном театре запомнился публике главным образом благодаря игре исполнителя заглавной роли М.М. Петипа. В качестве бенефисной пьесы «Сирано» преодолел и рубеж русской революции: в 1920 году в спектакле театра б. Корш в роли Сирано выступил сын Петипа Н.М. Радин.
Следующие двадцать лет пьеса не была востребована советской сценой, осваивавшей современную драматургию и классические произведения отдаленных эпох. Интерес к героической комедии Э. Ростана возник на рубеже тридцатых-сороковых годов, в преддверии Великой Отечественной войны.
Раздел 1.2 «Период, оказавшийся классическим» посвящен подробному рассказу об обращении к пьесе режиссерского театра, о постановках В.Н. Соловьева, Н.П. Охлопкова и С.Г. Бирман. Авторы этих спектаклей, вероятнее всего, не воспринимали «Сирано» как классику, для них Ростан был «старшим современником». Но и обе московские, и ленинградская постановки стали полноценно режиссерскими интерпретациями «Сирано». Режиссерский театр усилиями Соловьева, Охлопкова и Бирман впервые продемонстрировал в пьесе Ростана ее различные и притом заметно отличавшиеся одна от другой грани. Достоверно-историческое истолкование (отчасти даже «археологическое»), эпико-героическое, лирическое, «условно»-романтическое — пьеса выдержала испытание всеми этими ракурсами.
В 1938 году появился новый перевод В.А. Соловьева. Переводчик стремился сделать текст более мужественным, не боялся сокращений и определенной прозаизации. Его Сирано в духе предвоенного времени был прежде всего солдатом, героем, борцом. Этот перевод усилил героическое, патриотическое звучание пьесы. «Сирано де Бержерак» в новом переводе увидел свет весной 1941 года в Ленинградском театре им. Ленинского Комсомола. Поставил спектакль В.Н. Соловьев, в роли Сирано выступил В.И. Честноков. «Сирано» шел на сцене Ленкома в блокадную осень и зиму. В феврале 1942 года театр был эвакуирован, но В.И. Честноков остался в осажденном городе. Вместе с женой, актрисой Е.В. Аскинази, он создал походный вариант спектакля, а затем «Сирано» был заново поставлен в Театре Краснознаменного Балтийского флота под руководством А.В. Пергамента. История спектакля В.Н. Соловьева оборвалась.
В отличие от соловьевского, спектакль, поставленный Н.П. Охлопковым осенью 1942 года в театре им. Е. Вахтангова, находившемся тогда в эвакуации в Омске, прожил долгие годы и заслужил репутацию одного из самых значительных явлений в сценической истории этой пьесы в нашей стране. (Несмотря на наличие нового русского варианта текста Ростана, режиссер предпочел перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник.) В центре спектакля был великолепный актерский дуэт Р.Н. Симонова (Сирано) и Ц.Л. Мансуровой (Роксана). Мощную конкуренцию спектаклю вахтанговцев составила постановка Московского театра им. Ленинского Комсомола (1943 год, перевод В.А. Соловьева). Ее осуществили режиссер С.Г. Бирман и актер И.Н. Берсенев, исполнитель роли Бержерака. Постановки военных лет подарили публике театр-праздник, в котором она так нуждалась.
Владимир Честноков и Иван Берсенев (в ленинградском и московском Ленкоме соответственно) трактовали героя прежде всего как воина; для обоих существенной была ориентация на исторический прототип — поэта-вольнодумца XVII века. Герой вахтанговца Рубена Симонова был скорее созерцателем, мечтателем, одиноким лирическим поэтом — не солдатом. Но, с другой стороны, Симонову импонировали остроумие, насмешничество, шутовство его героя. Не случайно в откликах на такое исполнение роли впервые появляется тема сложного, противоречивого жанра, возникает слово «гротеск». Симоновская трактовка звучала некоторым диссонансом «историческому оптимизму» спектакля.
Версии выдающихся артистов неизбежно что-то высвечивали, а что-то приглушали в герое. Оригинальные, полноценные и непохожие друг на друга интерпретации роли Сирано глубину образа не исчерпывали и не стремились к этому. Существенной оказалась сама возможность столь разных подходов к содержанию «Сирано».
Необходимо подчеркнуть, что спектакли сороковых годов (особенно московские спектакли, продержавшиеся на сцене почти два десятилетия — срок, оказавшийся вполне достаточным для установления новой традиции понимания пьесы) — это важнейший этап и в реальной русской сценической истории пьесы Ростана, и одновременно в ее «теоретической истории». За «Сирано» утвердился статус классической пьесы.
Во Второй главе «Наш собеседник Ростан» рассматривается «постклассический» период героической комедии (в диссертации доказано, что этот период начался с постановки «Сирано» в театре «Современник» в 1964 году). Особенность этого этапа состоит в том, что театр вступает в диалог не только с пьесой, но и со сложившейся театральной традицией.
Раздел 2.1 «Осовременивание» посвящен постановке театра «Современник» 1964 года. Ее авторы О.Н. Ефремов и И.В. Кваша видели вахтанговский и ленкомовский спектакли в школьные годы, и желание создать «Сирано де Бержерака» для своего поколения было для них не только естественным, но и осознанным. На первый план вышло полемическое отталкивание от возникшей традиции. Революционный энтузиазм молодого «Современника» привел к тому, что новый «Сирано» стал действительно новым: в заново сделанном переводе, с новым, совершенно необычным и невозможным в прежних интерпретациях заглавным героем.
По инициативе И.В. Кваши новый перевод выполнил поэт Ю.А. Айхенвальд. Переводчик и постановщики создали остросовременный спектакль — о поэтах и поэзии, о значении слова, фактически — о борьбе за свободу слова. Ю.А. Айхенвальд, опираясь на опыт первой переводчицы, вольно обращавшейся с оригиналом, «дополнил» Ростана: он подарил Бержераку свои лирические стихи, написанные в тюремной психиатрической больнице, обогатил пьесу, казалось бы, совершенно далеким от нее опытом — трагической судьбой российского поэта ХХ века.
Автор перевода первым (еще до практиков театра) решал вопрос «осовременивания» — приближения языка, коллизий и характеров пьесы к сегодняшнему дню. Одной из главных тем стала тема времени, «века» (слова о «железной логике века», которые Ю. Айхенвальд вложил в уста умирающего Сирано, могут звучать адекватно только по-русски). Новый перевод впитал воздух рубежа 1950–1960-х годов; новый Сирано заговорил словами поэта-диссидента, готового протестовать только лишь «из принципа и для примера», не надеясь добиться какого-либо реального результата своей борьбы.
Сумрачный Сирано в исполнении Михаила Козакова был сознательно неприятен и персонажам пьесы, и даже зрительному залу — не только огромным уродливым носом, но и своим ожесточением, отчаянием, яростью. Этот герой был масштабен в своей «несимпатичности». Сирано Игоря Кваши был понятнее и человечнее, но проще.
Важным аспектом постановки «Сирано де Бержерака» является степень вовлеченности в действие основных персонажей. От меры участия в действии Роксаны зависит, в частности, насколько важной (или формальной) оказывается любовно-лирическая тема; решение образа де Гиша влияет на то, насколько содержательным становится соперничество Сирано с его противниками и т.д. К этому вопросу примыкает и вопрос о проработанности линий героев второго ряда, прежде всего Рагно, представляющего собой комическое «эхо» центрального героя. В спектакле «Современника» при относительной блеклости основных персонажей — Роксаны (ее играли в очередь Людмила Гурченко и Лилия Толмачева) и Кристиана (в этой роли дебютировал Игорь Васильев) — в спектакле оказались на виду второстепенные. Во-первых, Рагно в исполнении Олега Табакова. Он был заметен и важен потому, что оказался содержательно соотнесен с образом Сирано. Главный герой — «чудак», Дон Кихот. Рагно по сути — тоже чудак, тоже поэт. Только Рагно добрый, а Сирано в этом спектакле — «злой». Вторая выдвинувшаяся фигура и вовсе неожиданна — это Лебре в исполнении Владимира Заманского. В пьесе всего лишь наперсник главного героя, в «Современнике» он оказался существенным персонажем, причем «отрицательным», почти двойником трезвого реалиста де Гиша — Виктора Сергачева.
Благоразумный, здравомыслящий Лебре, уговаривающий Сирано устроиться в жизни, перестать бунтовать, — примета времени. Бороться Сирано приходилось уже не только с врагами, какими бы они ни были: он должен защищаться от друзей и даже от себя. Послевоенный Сирано должен был действовать и отстаивать себя в мирной жизни, продолжать воевать, хотя все его призывают одуматься.
В литературе о театре постановку «Современника» необоснованно считают проходной и малоинтересной. Проанализировав многочисленные отзывы о спектакле, рецензии самых разных критиков, воспоминания участников, автор диссертации приходит к выводам, не совпадающим с привычной точкой зрения. Это был противоречивый, эклектичный, но весьма содержательный спектакль, обогативший пьесу новыми смыслами, сохранивший ее в российском театре в новом качестве.
Опыт модернизации «Сирано» «Современником» изменил подход к пьесе и, можно сказать, сослужил добрую службу авторам спектакля 1980 года в Драматическом театре им. К.С. Станиславского (раздел 2.2 «Полномасштабный герой»). Возможность помещения в центр спектакля современного Поэта и современных проблем уже была реализована, и поэтому не требовалось тратить свои и зрительские усилия на признание этой возможности. Можно было сосредоточиться на художественных средствах интерпретации пьесы. В результате возник необычайной силы резонанс между исполнителем заглавной роли, героем и «современным прототипом». Перед поколением «магнитофонной культуры» предстал в исполнении Сергея Шакурова и Сирано-поэт, и Сирано-влюбленный, и Сирано-солдат. Его костюм — черный свитер и белая рубашка, его хрипловатый голос, его мужественность — все напоминало Владимира Высоцкого и Высоцкого–Гамлета. Сирано эпохи застоя физически страдал от всеобщего фарисейства, задыхался от невозможности высказаться.
С. Шакурову удалось добиться долгожданной победы над декламационностью заглавной роли, он стал самым молчаливым, но одновременно и самым глубоким, самым многогранным Сирано российской сцены. Испытание классической пьесы «Сирано де Бержерак», проверка ее способности входить в связь с разными временами не была, конечно, целью авторов спектакля, но эта способность была убедительно подтверждена.
Раздел 2.3 именуется «Еще один реквием» (первый реквием — это спектакль Ленинградского театра им. Ленинского Комсомола, реквием по В.Н. Соловьеву, для которого «Сирано» оказался последним спектаклем). Убедительным (скорее — удивительным) и трагическим свидетельством значимости постановки «Современника» 1964 года стало повторное обращение О.Н. Ефремова к пьесе Ростана, поэтика которой, как нередко утверждалось, не могла быть ему близка. Ефремов, возвращаясь к «Сирано», хотел, если выразиться словами айхенвальдовского перевода, «продолжить проигранный бой». Высказать не высказанное в 1964 году, проявить верность идеалам шестидесятых годов. Но политическая сверхзадача, которая была столь существенна в первой версии, во второй практически отпадает, при том что нравственная — остается. Ефремовский «Сирано» был задуман как спектакль о любви — не о несчастной или разделенной, даже не платонической, а о любви идеальной. Герой спектакля в исполнении Виктора Гвоздицкого не был протестующим борцом за свободу, он был Поэтом, живущим в мире творчества. Он был трагически одинок в этом спектакле, превратившемся в монолог Сирано (остальные персонажи, кроме графа де Гиша в исполнении Станислава Любшина, были содержательно обделены). Трагизм Сирано—Гвоздицкого в том, что его любовь не просто безответна — почти беспредметна.
Режиссер не успел завершить работу над спектаклем. Премьера на сцене МХТ им. Чехова состоялась уже после смерти О.Н. Ефремова, в октябре 2000 года.
Третья глава рассматривает «Спектакли-изложения». Возникновение традиции сценической реализации пьесы порождает два основных варианта стратегии постановщиков: спор с традицией и следование ей. Здесь автор исследует второй вариант.
В разделе 3.1 «Академическое изложение» анализируются спектакли 1980-х годов, поставленные в академических театрах: в московском Малом театре (1983 год, режиссер Рачья Капланян, в роли Сирано — Юрий Соломин) и Ленинградском Театре драмы им. Пушкина (1987 год, режиссер Игорь Горбачев, он же первый исполнитель роли Сирано; впоследствии его сменил Александр Марков). Малому театру всегда была важна «сфера романтических страстей», и потому выбор пьесы не удивляет. Герой спектакля представал в «музейной» экипировке, в полном соответствии ремаркам и эпохе: в плаще, в шляпе с перьями, со шпагой. Театр заявлял о романтике героизма, но только декларативно, формально. При этом актер, если приглядеться, по самой своей природе и трактовкой роли Сирано не вписывался в ходульно-романтическое решение. Сирано Ю. Соломина, с его мягкостью и милым человеческим обаянием, был прежде всего влюбленным. После объемного героя С. Шакурова его персонаж казался обедненным, но это был живой человек в почти неживом спектакле. В спектакле театра драмы им. Пушкина таким живым человеком оказался Сирано А. Маркова. Манера игры, способ существования на площадке этого актера противопоставляли его всему стилю постановки (спектакль был поставлен с пышностью и тяжеловесной декоративностью). Во многом за счет того, что на общем фоне выделялся артист, отличался и его герой, становясь «иным» по отношению ко всем вокруг.
Раздел 3.2 «Сирано сериальный» трактует о встрече «Сирано де Бержерака» с современной массовой культурой. В основном здесь речь идет о спектакле Театра им. Моссовета (2001 год). Режиссер спектакля Павел Хомский имел опыт постановки пьесы Ростана. Его спектакль 1964 года в Ленинградском театре им. Ленинского Комсомола с П. Гориным и Т. Пилецкой в главных ролях пользовался большим успехом у зрителей и шел полтора десятилетия. Новый вариант, сделанный почти через сорок лет после первого, не базируется ни на острой трактовке, ни на свежем прочтении, он полностью лежит на плечах исполнителя заглавной роли — популярного киноактера Александра Домогарова, полюбившегося публике в сериале «Марш Турецкого». «Сериальный Сирано», таким образом, возвращает пьесу к ее первым годам, когда она ставилась как бенефисная.
Четвертая глава диссертации целиком посвящена спектаклю «Сирано де Бержерак. Версия» (совместная постановка театра «Сатирикон» и Театра Антона Чехова, 1992 год). Авторы, режиссер Леонид Трушкин и актер Константин Райкин, кажется, впервые предложили зрителям не интерпретацию, а версию пьесы Ростана, не только сократив текст, но и внеся серьезные изменения в сюжет. Согласно этой версии Роксана, например, прекрасно знала, кто автор любовных стихов, обращенных к ней, а Кристиан, вопреки пьесе, не погиб от случайной пули, а вполне сознательно покончил с собой. Сирано, по мысли К. Райкина, необходимо пройти путь духовного очищения, смирить гордыню и понять, что нет ничего выше нравственного закона… Глава носит название «Реконструкция концепции Лебре», поскольку авторы спектакля, сами того не подозревая, внесли в пьесу агиографическую концепцию исторического Лебре, описывавшего жизнь исторического Бержерака.
Пятая глава, «Сирано новейшего времени», рассматривает спектакль Владимира Мирзоева в театре им. Е. Вахтангова (2001 год), который удалялся от канона, фактически созданного в первой половине века, может быть, дальше, чем какая-либо другая постановка. Но авторам нового вахтанговского спектакля вместо канона удалось сочинить великолепный апокриф. Они ведут прямой диалог с традицией (с вахтанговским спектаклем 1942 года, с «романтической» традицией вообще), они прочитали не только пьесу, но и фантастический роман исторического Сирано де Бержерака о путешествии на Луну. Новое решение было по-разному осмыслено и оценено критиками, но зрители единодушно поддержали новый «миф о Сирано».
Автор спектакля и протагонист его театра Максим Суханов довели до предела одну из линий, характерных для освоения героической комедии Ростана, — дегероизацию заглавного героя. К удивлению многих, новое воплощение русского Сирано — инопланетное существо, «Человек Неотсюда» — стало одним из самых точных и глубоких за всю историю постановок.
Сирано Максима Суханова странен до невозможности, но это сложно задуманный, замешенный на тотальной противоречивости всех свойств герой. Большой ребенок с голым мясистым черепом, смешной, в нелепых клоунских одеяниях, он наделен способностью что-то излучать, посылать любовные токи, которые его возлюбленная (Роксана — Ирина Купченко) воспринимает, не осознавая. Одиночество, как и положено, является его «отличием и ореолом», хотя бы потому, что он существо особой, непонятной природы. Разделенность телесного и духовного, противоречие материального и идеального — этот романтический конфликт наглядно воплощен в сухановском Сирано.
В Шестой главе («Возвращение к Анониму») анализируется постановка В. Шамирова, М. Пореченкова и А. Горбунова (продюсерская компания Hertruda & Sisters, 2003 год). Театральное время, как и историческое, имеет, кроме обычной линейной модели («стрела времени»), еще и циклическую модель (движение по кругу, вариант — по спирали). Выше уже отмечалось, что новая и оригинальная версия Трушкина — Райкина возвращает нас к апологетическому Предисловию А. Лебре 1657 года. Если друг Сирано начал творить из него святого, то литературная богема XVII века через «Эпитафию» Анонима (1655 г.) донесла до потомков образ гуляки, буяна и безбожника. Если «агиографическая» линия ожила в спектакле «Сатирикона» в каком-то смысле случайно, то пародийная, смеховая линия должна была возродиться с неизбежностью. Жанр спектакля продюсерской компании Hertruda & Sisters — именно пародия.
Одновременно с «Сирано» Михаила Пореченкова в Москве прошла японская постановка Тадаши Сузуки (Центр исполнительских искусств Сидзуоки, V Международный фестиваль имени А.П. Чехова, 2003 год), в которой действие французской пьесы было перенесено в Японию, герои-гвардейцы превратились в самураев. Пародии, ремейки, переносы в новую культурную среду — неизбежные спутники «знаковых» пьес, свидетельства их окончательного признания «классикой».
Немалая часть Заключения отдана анализу одной из последних по времени сценических версий пьесы — постановке Сургутского музыкально-драматического театра 2005 года. Этот спектакль не претендует на роль выдающегося художественного открытия, не переворачивает представления о пьесе и традиции ее постановок. Но он по-своему знаменателен. Кажется, у пьесы «Сирано де Бержерак» закончился некий не просто столетний, но теоретически полный цикл встреч с русским театром и начался новый, приметы которого еще не могут быть ясны. Всего лишь за один век перед нами прошло множество интерпретаций героической комедии «Сирано де Бержерак». И оказалось, что это не механический или хронологический набор вариантов взаимоотношений между пьесой и спектаклем. Выяснилось, что блестящая однодневка сама собою, случаем или чудом, не превращается в общепризнанную классику: есть некая общетеатральная закономерность, в силу которой богатства героической комедии Ростана открылись сцене и зрителям. Эти богатства не в метафорическом, а в строгом смысле расширялись и росли, и важнейшую, если не решающую роль в этом процессе сыграл театр.
В Заключении содержатся выводы из проделанной работы.
Как всякую «будущую классику», сцена сначала «примерила» на себя пьесу Ростана, рассмотрела в ней самое привлекательное и, что называется, лежащее на поверхности — великую роль. Интерпретирующая режиссура сороковых годов ХХ века совершила качественный скачок: она открыла в пьесе — и самой пьесе — ее объем, доказала, что мерцание смыслов и своеобразная односторонность каждой трактовки не являются ни недостатком, ни достоинством: это атрибут «классики».
Возникла традиция, и вне связи с ней дальнейшее было уже невозможно. Варианты здесь чрезвычайно разнообразны: продуктивный диалог с традицией (по-разному этот диалог велся и в «Современнике в 1964 году, и в Драматическом театре им. К.С. Станиславского в 1980-м, и в Вахтанговском театре в 2001 году) и поверхностное следование ей (как, например, в спектаклях Малого театра и театра драмы им. Пушкина 1980 годов, спектакле театра им. Моссовета 2001 года), модернизация путем «домысливания» и «досочинения» (как, например, в спектакле «Современника»), проецирование фигуры героя на отечественный прототип (как в том же спектакле Драматического театра им. К.С. Станиславского), попытки использовать в качестве сценарной канвы известный бренд (как, например, в постановке «Сатирикона» 1992 года), экстатическое «погружение» в материал и сотворение нового мифа (это можно сказать о версии В. Мирзоева в театре им. Е. Вахтангова, 2001 год), спор с собой и сотрудничество с предшественниками, стремление выявить общечеловеческие пласты материала и грубо-пародийное скольжение по его поверхности. Открытость пьесы допускала все эти подходы, включая резкое осовременивание и насильственную актуализацию. Даже в случае, когда ответ на вопрос «Есть ли это в пьесе?» оказывался отрицательным, возможность «выращивания» нового смысла на почве пьесы оставалась и остается.
Проведенный в диссертации анализ подталкивает к оптимистическому прогнозу: сценический потенциал героической комедии «Сирано де Бержерак» еще не исчерпан, как не исчерпаны возможные варианты ее связи с театром.
Публикации автора по теме диссертации
Публикации в ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Тропп Е.Э. Русский Сирано // Театральная жизнь. 2008. № 3. С. 44–46. (0, 4 п. л.)
2. Тропп Е.Э. «Когда над землею зажжется рассвет»: («Сирано де Бержерак» в «Современнике» (1964)) // Вопросы театра / Proscaenium. 2009. № 1–2. С. 185–208. (1, 5 п. л.)
Публикации в других изданиях:
3. Тропп Е.Э. Сирано… Вершинин // Искусство Ленинграда. 1990. № 11. С. 21–26. (0, 6 п. л.)
4. Тропп Е.Э. Прогулки с Трушкиным // Петербургский театральный журнал. 1993. № 2. С. 16–19. (0, 4 п. л.)
5. Тропп Е.Э. «Изгнанники, скитальцы и поэты»: (Сирано де Бержерак конца века) // Петербургский театральный журнал. 2001. № 24. С. 33–40. (0,9 п. л.)
6. Тропп Е.Э. Романтики // Петербургский театральный журнал. 2006. № 1 (43). С. 94–97. (0, 4 п. л.)
7. Тропп Е.Э. Последний спектакль Олега Ефремова // Театрон. 2009. № 1 (3). С. 60–69. (1 п. л.)
8. Тропп Е.Э. Русские переводы пьесы Э. Ростана «Сирано де Бержерак» // Цветаева, ее эпоха и современный театр: Сб. статей. СПб., 2010. С. 119–125. (0, 3 п. л.)
Сноски:
1 Смелянский А.М. Наши собеседники: (Русская классическая драматургия на сцене советского театра 1970-х годов). М., 1981.
2 Алперс Б. В Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2. Театральные премьеры и дискуссии. С. 395.
3 Классика и современность. Проблемы советской режиссуры 60–70-х годов / Отв. ред. А.М. Смелянский. М., 1987.
4 Рудницкий К.Л. Театральные сюжеты. М., 1990; Гаевский В. Флейта Гамлета. М., 1990; Смелянский А.М. Предлагаемые обстоятельства: (Из жизни русского театра второй половины ХХ века). М., 1999; Смелянский А.М. Уходящая натура. Кн. 2. М., 2002; Соловьева И. Спектакль идет сегодня. М., 1966.
5 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977; Эйхенбаум Б. М. О литературе: Статьи разных лет. М., 1987.
6 Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 2000.
7 Эткинд Е.Г. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. Л., 1973 и др.
8 Первая Турандот: (Книга о жизни и творчестве народной артистки СССР Цецилии Львовны Мансуровой). М., 1986; Бирман С. Иван Николаевич Берсенев // Бирман С. Судьбой дарованные встречи. М., 1971. С. 182–194; Мацкин А.П. Встречи с Астанговым: (Роли и личность) // Астангов М. Статьи и воспоминания. М.: Искусство. 1971. C. 7–56.
9 Айхенвальд Ю. Театр — перевод — театр // Театр. 1965. № 4. С. 29–35.
10 Луков В.А. Эдмон Ростан. Самара, 2003.
11 Владимирова А.И. Франция на рубеже XIX и XX веков: Литература, живопись, музыка, театр. СПб., 2004.
12 Ренар Ж. Дневник. Калининград, 1998; Кокто Ж. Портреты-воспоминания. 1900–1914. СПб., 2002; Щепкина-Куперник Т.Л. Театр в моей жизни. М.; Л., 1948.
13 Роллан Р. Народный театр // Собр. соч.: В 14 т. М, 1958. Т. 14. С. 167–262.
14 Эткинд Е.Г. Эдмон Ростан, поэт театральных эффектов // Ростан Э. Сирано де Бержерак. СПб., 2001. С. 303–329.
15 Гуляева И.Б. «Сирано де Бержерак» на русском языке: (Анализ четырех переводов героической комедии Э. Ростана). М., 1996; Гуляева И.Б. Русская судьба «Сирано де Бержерака» // Ростан Э. «Сирано де Бержерак»: Четыре перевода. Ярославль, 2009.
16 Гозенпуд А.А. Поговорим о переводе // Театр и жизнь: Сб. статей. Л.; М., 1957. С. 101–120.
17 Заборов П.Р. «Сирано де Бержерак» в России (1898–1917 гг.) // Ростан Э. Сирано де Бержерак. СПб., 2001. С. 330–344; Гительман Л.И. «Сирано де Бержерак» на русской сцене 1917–1990-х гг. // Там же. С. 345–362.
18 Рабинянц Н.А. Театр юности: (Очерк истории Ленинградского государственного театра им. Ленинского Комсомола). М.; Л., 1959; Иванова В.В. Владимир Честноков. Л., 1967; Алянский Ю.Л. Театральные легенды. М., 1973.
19 Велехова Н.А. Охлопков и театр улиц. М., 1970; Березкин В. Вадим Рындин. М., 1974.
20 Поль А. Два Сирано // Актеры и роли: Сб. статей. М.; Л., 1947. С. 197–214.
21 Токарева М. Константин Райкин: роман с Театром. М., 2001; Давыдова М. Конец театральной эпохи. М., 2005.
22 Лебре А. Предисловие // Ростан Э. Сирано де Бержерак. СПб., 2001. С. 255–265.