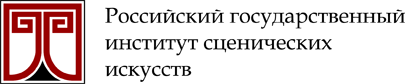Диссертация
Ульянова А.Б. ТЕАТРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И РЕЖИССЕРСКО-СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДОЛЬФА АППИА
Ульянова Анна Борисовна
ТЕАТРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И РЕЖИССЕРСКО-СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДОЛЬФА АППИА
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
Специальность 17.00.01 – Театральное искусство
Работа выполнена на кафедре зарубежного искусства ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства»
Научный руководитель – доктор искусствоведения Максимов В.И.
Официальные оппоненты: доктор искусствоведения Чепуров А.А.; кандидат искусствоведения Левина А.В.
Ведущая организация: ФГОУ ВП и ПО «Российская академия театрального искусства – ГИТИС»
Защита состоялась 08 октября 2009г. в 17.00 на заседании Диссертационного совета Д 210.017.01 в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства по адресу: 191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д.35, ауд. 512.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии (Моховая ул, д.34)
Ученый секретарь Диссертационного совета, кандидат искусствоведения Некрасова И.А.
Театральная теория швейцарца Адольфа Франсуа Аппиа (1862–1928) сформировалась за порубежное историческое тридцатилетие (с конца 1890-х до середины 1920-х годов), полное глобальных потрясений. Архитектор по образованию, музыкант и режиссер по духу, Аппиа создал универсальную теорию театра, подходящую как для музыкальной драмы, так и для драматического спектакля, но оставшуюся, в основном, в виде проектов, эскизов декораций и режиссерских экспликаций. При жизни его имя было известно лишь узкому кругу людей, имевших отношение к театру, однако его наследие не исчерпано, а его влияние на современный театр бесспорно. Посвятив себя реформированию постановочных принципов вагнеровской музыкальной драмы, Аппиа продвигался от неоромантизма к символизму, от «отшельничества» к публичности, от безвестности к славе. Как вагнерианец-теоретик, сценограф-революционер и режиссер-новатор Адольф Аппиа постоянно опережал ту эпоху, в которую ему довелось родиться и творить. Его «простые» постулаты и «туманные» пояснения к ним послужили в дальнейшем источником вдохновения не одному режиссеру. Известно, что идеи Аппиа вдохновляли таких крупных театральных деятелей как Эдвард Гордон Крэг, Орельен-Мари Люнье-По, Эмиль Жак-Далькроз, Всеволод Мейерхольд, Йозеф Свобода и др.
Цель диссертационного исследования: проследив эволюцию творческой деятельности художника, выявить и раскрыть такой феномен как «вагнерианский театр Адольфа Аппиа».
Задачи исследования:
-
проанализировать театральную концепцию А.Аппиа, изложенную им в теоретических трудах «Постановка вагнеровской драмы», «Музыка и постановка», «Произведение живого искусства», «Записки о театре» и др.;
-
определить значение ранних малоизвестных постановок А.Аппиа для развития новаторского подхода к театральному освещению с точки зрения сценографии и режиссуры;
-
выявить принципиальные сходства и различия аппиевского «иерархического синтеза» и вагнеровского Gesamtkunstwerk’a;
-
соотнести эстетические принципы А.Аппиа с методологией Э.Жак-Далькроза;
-
реконструировать спектакли А.Аппиа, поставленные им в разные периоды творческой деятельности, и проанализировать их, сопоставив ранние сценарии, эскизы и наброски к произведениям Р.Вагнера (1890-е годы) с реализованными им театральными постановками вагнеровских музыкальных драм (1920-е годы);
-
подтвердить значимость театральной деятельности А.Аппиа в историческом художественном контексте рубежа XIX-XX вв.
Актуальность диссертации. Комплексное исследование теоретической концепции Аппиа, его театральных экспериментов и режиссерско-сценографической практики, выявление их сущностного единства, открывает широкие возможности для театральных практиков – режиссеров, художников по свету, сценографов, – так как является своего рода «ключом» к постановке синтетических спектаклей музыкального и драматического театра. Для историков театра восполняется пробел в изучении необходимого компонента процесса становления режиссерского театра рубежа XIX-XX вв.
Научная новизна исследования, прежде всего, определяется тем, что в нем впервые творчество Адольфа Аппиа рассматривается как самостоятельное явление в истории театра, а также тем, что в диссертации впервые реконструируются спектакли, поставленные А. Аппиа в разные периоды творческой деятельности.
Объектом исследования являются режиссерские и сценографические искания в европейском театре рубежа XIX-XX вв. (конец 1890-х – середина 1920-х гг.), рассмотренные в ракурсе заявленной темы.
Предмет исследования – театрально-эстетическая концепция и сценическая практика А. Аппиа.
Материал исследования составляют:
-
теоретические работы А.Аппиа: «Постановка вагнеровской драмы», «Музыка и постановка», «Произведение живого искусства», «Записки о театре», «Введение в мои личные записи», статьи для Института Ритма Э.Жак-Далькроза и др.;
-
спектакли А.Аппиа, реконструированные диссертантом на основании рецензий, критических статей, воспоминаний современников и архивных документов;
-
работы Р.Вагнера, Э.Жак-Далькроза, Э.Г.Крэга, В.Э.Мейерхольда, А.Я.Таирова, Э.Шюре и др.
В работе использованы документы и материалы Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино на русском, французском, английском, итальянском и немецком языках.
Методология исследования. В основу диссертационного исследования положен метод историко-типологического анализа, принятый в отечественном искусствоведении и методология комплексного изучения спектакля в его исторической контекстуальной реконструкции, основанный на трудах М. Германа и ленинградской (гвоздевской) школы театроведения.
Теоретическая база. Философско-эстетическая концепция Ф.Ницше, интуитивистская философия А.Бергсона. Синтез искусств Р.Вагнера. Театральная платформа символизма и авангарда. А также опорные моменты трудов современных ученых: В.В. Базанова, Ю.М. Барбоя, А.В. Бартошевича1, Т.И. Бачелис, В.И. Березкина, В.И. Божовича2, А.А. Гвоздева,
Л.И. Гительмана, А.А. Гозенпуда3, В.И. Максимова, С.С. Мокульского, М.М. Молодцовой4, А.Г.Образцовой, Г.В. Титовой, Е.Л. Финкельштейн5 и других исследователей театра.
Литература вопроса. Исследовательская литература, касающаяся творчества Аппиа, стала появляться с самого начала его теоретической и практической театральной карьеры. Аппиа был воспринят современниками как художник, достойный пристального внимания. Первым, кто в своих вагнерианских исследованиях подчеркнул связь Аппиа с реформированием постановки вагнеровских музыкальных драм, был английский писатель-пангерманист Х.С.Чемберлен, посвятивший Аппиа свою работу «Вагнеровская драма» (1892)6. Статья Аппиа «Как реформировать нашу режиссуру» появилась при содействии немецкого литератора Г. фон Кайзерлинга, который впоследствии проанализировал творческий метод художника в статье «Первое применение идей Аппиа в реформировании сцены»7. После смерти Аппиа его помощник Жан Мерсье опубликовал работу «Адольф Аппиа: Возрождение драматического искусства», в которую включил так называемые «режиссерские тетради» – подробные указания Аппиа, касающиеся практически всех элементов постановки, от расстановки декораций до смены костюмов во время действия8.
В фундаментальных трудах о мировой сценографии, а также в работах о творчестве Э.Г.Крэга и Й.Свободы9, писал об Аппиа французский искусствовед Дени Бабле. Им же написано и предисловие к четырехтомнику сочинений Аппиа (собранному и прокомментированному Мари-Луизой Бабле-Ан)10, который стал источниковедческой базой данного диссертационного исследования.
Опираясь на работы Д. Бабле, творческий путь и биографию художника прослеживает американский исследователь В.-Р. Вольбах в монографии «Адольф Аппиа – пророк современного театра»11. Современные зарубежные исследователи продолжают сопоставлять имя Адольфа Аппиа со всемирно известными именами Всеволода Мейерхольда (Р. Бартлетт «Вагнер и Россия»)12, Эдварда Гордона Крэга (Г. Бергхауз «Театр, представление и исторический авангард»; Дж. Миллинг «Современные теории спектакля»; Ж.-Ж. Рубен «Введение в великие теории Театра» и др.)13, Антонена Арто и Питера Брука (Дж. Руз-Эванс «Экспериментальный театр от Станиславского до Питера Брука»)14, Жака Копо и Ежи Гротовского (Э. Барба «Словарь театральной антропологии», «Бумажное каноэ»)15, Рудольфа Лабана, Эрвина Пискатора, Бертольта Брехта и К.С.Станиславского («Пятьдесят выдающихся театральных режиссеров»)16 и т.д. Тем не менее, в этих работах либо приводятся известные сведения об Аппиа, либо дается поверхностная общая оценка его творчества.
В современном отечественном театроведении творчество А.Аппиа до сих пор рассматривалось исключительно в свете сценографических реформ рубежа ХIХ – ХХ веков (В.В.Базанов, В.И.Березкин)17. Аппиа упоминают в тех случаях, когда речь заходит о реформировании постановок музыкальных драм Вагнера (А.Л. Порфирьева)18, а также при обращении к театральной деятельности Э. Жак-Далькроза (В.А. Гринер)19, или, чаще всего, Э.Г. Крэга (их творчество сравнивают Т.И. Бачелис, А.Г. Образцова и другие авторы)20. Самым целенаправленным исследователем творчества Адольфа Аппиа в России является А.Л. Бобылева21, однако, как в диссертации, так и в научно-популярной книге, этот автор рассматривает аппиевскую теорию театра, почти не уделяя внимания театральной практике художника. Не все периоды театральной деятельности Аппиа освещены в работах А.Л. Бобылевой с достаточной основательностью, а некоторые утверждения представляются спорными.
Театральная концепция А.Аппиа, ее фундаментальное значение в свете теории синтеза искусств, практически не изучены. Переводов теоретических текстов Аппиа на русский язык также немного, и они всё ещё отличаются отрывочностью. Тексты Аппиа публиковались в основном в переводах А.Л.Бобылевой22 и автора диссертации23, частично они включены в «Хрестоматию по истории зарубежного театра» (2007)24.
Апробация исследования. Обсуждение диссертационного исследования проходило на заседаниях кафедры зарубежного искусства СПбГАТИ. По теме диссертации был сделан доклад на третьей научной конференции аспирантов СПбГАТИ «Феномен актера: профессия, философия, эстетика» (13 мая 2008 года). Основные положения диссертации опубликованы в ряде статей.
Практическая значимость исследования обусловлена тем, что его результаты могут использоваться в курсах лекций по истории театра, в дальнейшей научной разработке проблем режиссуры и сценографии, а также в педагогической практике при постановке учебных спектаклей драматического и музыкального театра.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы на русском и иностранных языках.
Во введении обосновывается тема, выбранная для исследования, доказываются ее актуальность и научная новизна, формулируются цели и задачи работы, определяются ее методологические принципы, всесторонне анализируется литература вопроса. Сообщаются необходимые факты биографии А.Аппиа, сыгравшие важную роль в его художественном становлении. Определяются этапы творческой деятельности художника. Выявляется место театральной концепции А.Аппиа в контексте культурно-исторической ситуации рубежа XIX-XX вв.
В диссертации дается периодизация творчества А.Аппиа, согласно которой строится композиция исследования:
-
первому периоду творчества Аппиа (1892-1897), во время которого им были написаны крупные теоретические работы, посвящена первая глава диссертации;
-
второй период (1900-1904), пополнивший теоретический «багаж» художника программными статьями, а практический – первыми постановочными опытами, описывается во второй главе;
-
третий период театральной деятельности Аппиа – со времени его знакомства с Э.Жак-Далькрозом в 1906 году, и их сотрудничество в Институте Ритма в Хеллерау вплоть до начала Первой мировой войны в 1914 году – освещается в третьей главе диссертации;
-
четвертый, послевоенный этап творческого пути Аппиа-режиссера (начало 1920-х годов), направленный на «эффективную» постановку вагнеровских драм, рассматривается в четвертой главе диссертационного исследования.
Первая глава – «Адольф Аппиа и наследие Рихарда Вагнера: 1892-1897» – посвящена исследованию причин, побудивших художника обратиться к творчеству Вагнера, и программе переосмысления сценических подходов к вагнеровским произведениям. В ней рассматривается взаимоотношение драмы и музыки в вагнеровской концепции «музыкальной драмы» и ее истолкование Адольфом Аппиа.
Слава Рихарда Вагнера в Европе начала расти после его смерти, одним из центров вагнерианства в этот период стал Париж. В обстановке политической реакции 80-х – 90-х годов XIX века, вызвавшей идейный кризис, для французских символистов – художников и поэтов – музыка Вагнера явилась объединяющим началом. Однако их не могли не угнетать противоречия между символизмом вагнеровских драм и иллюзионистской манерой реализации их на сцене. В постановках Байройта25 доминировали «иллюзионистские штучки и шаблоны»26, которыми была печально знаменита парижская Опера, а потому поклонники творчества композитора предпочитали слушать музыку Вагнера в концертном исполнении, а не в театре. Первым, кто «осмелился поднять голос против смешного и вульгарного»27 в байройтских постановках стал Адольф Аппиа.
В освещении вагнеровского наследия Адольфу Аппиа принадлежит уникальное место. Он воспринял вагнеровскую концепцию театра, воплощенную в музыкально-поэтических драмах, и разработал на ее основе сценографическую, световую и пластическую модели универсального сценического действия. Он развил вагнеровский театр в условиях формирующегося режиссерского искусства. Свою теорию Аппиа сформулировал в книгах: «Постановка вагнеровской драмы» («La mise en scène du drame wagnérien», 1892) и «Музыка и постановка» («Die Musik und die Inszenierung», 1895 - 1897). Во вступительном слове к «Постановке вагнеровской драмы», изданной ограниченным тиражом (300 экз.) и имевшей во Франции больший успех, чем в Германии, Аппиа обращается к «просвещенному» читателю, знающему о вагнеровских драмах и неравнодушному к судьбе современного ему театра. Проблема восприятия вагнеровской драмы реальным зрителем останется для Аппиа неизменно актуальной. Уже в ранних работах он находит определенные пути ее решения, в первую очередь, предлагая возвратить вагнеровские произведения из концерта в театр, создав соответствующую им по духу сценическую атмосферу. Если К.- В. Глюк, привязывая каждый слог к каждой ноте, добился только реформы оперы, но не рождения новой формы драмы, так как работал над готовым либретто, то Вагнер, выдвинув концепцию принципиально нового театра, создал также и новую театральную форму – Wort-Tondram’y – драму словесно-музыкальную. Х.С.Чемберлен предлагал называть вагнеровские произведения драмами, так как, по его мнению, «слово опера создает путаницу, в то время как слово драма выводит на путь более глубинного понимания»28. Что касается Аппиа, то для него приемлема только формула «вагнеровская драма» (drame wagnérien), хотя он признает, что образцы произведений данного жанра были на тот момент созданы только самим Вагнером.
Универсализм вагнеровской драмы заключается в единстве мифологической основы, поэтической формы и музыкальной структуры. Ранние толкователи вагнеровского Gesamtkunstwerk’а и в их числе русские символисты (например, Андрей Белый) считали, что исходным посылом синтеза искусств должна стать именно драма. Адольф Аппиа выражает более глубокую позицию, так как в вагнеровской драме синтез для него – не искомое, а изначальное понятие, аппиевский синтез произрастает не из античного синкретического образца, а из музыкальной основы всех искусств. Основная мысль Аппиа заключается в том, что «главным отличием вагнеровской драмы от драмы разговорной является применение музыки»29. Именно этот постулат оценил в концепции Аппиа В.Э. Мейерхольд, когда написал, что «Аппиа не видит возможности придти к драматической концепции иначе, как сначала повернув себя в мир эмоций, – в музыкальную сферу»30. Как показывает проведенный анализ, музыкальная сфера у Аппиа определяет все ключевые моменты постановки: передвижение валькирий, разгорание огня, страдания Брунхильды и нравственные мучения Вотана. Музыка то, как послушный инструмент, должна «соответствовать спектаклю, который в некотором роде делает ее доступной для глаза»; то, как свободная стихия, она совершает «внезапное отступление, не имеющее ничего общего с происходящим в спектакле»31. Интенсивность, которой достигает вагнеровская музыка, «требует адекватного сценического решения» для достижения соответствующей декорационной интенсивности, которая, как полагает Аппиа, «будет состоять в ритмической согласованности спектакля и оркестра»32. Именно музыка обеспечивает синтез – «полное слияние, в котором участвует даже зритель»33.
Теоретические принципы, изложенные Аппиа во второй главе «Музыки и постановки», в первую очередь касаются путей визуализации музыки в спектакле. Музыка переносится в пространство, обретая в нем материальную форму посредством постановки драмы. И если прежде для создания «осязаемой формы» музыке приходилось «угождать» драме «в ущерб самой своей сущности», то ныне, полагает Аппиа, подобная форма уже не «иллюзорна», а «эффективна» во «в некотором роде музыкальном пространстве»34.
Роль постановщика, согласно Аппиа, «состоит в том, чтобы управлять игрой фиксированных обстоятельств»; постановщик пытается «искусственно создать синтез изобразительных средств» и должен «играть со сценическим материалом, остерегаясь того, чтобы … создать фикцию», но «только истинный художник может осуществить подобную миссию»35.
«Постановку вагнеровской драмы» Аппиа-режиссер завершает своеобразным «поклоном» публике, говоря, что «любой, чья душа открыта для языка вагнеровской драмы, поймет, что для демонстрации подобного произведения искусства ничем нельзя пренебрегать»36.
Вторая глава – «Первые экспериментальные постановки: 1900-1904» – посвящена первым сценическим опытам Аппиа, которые, оказавшись в тени его универсальных театральных идей, до сего времени выпадали из внимания исследователей, так как считалось, что в начале ХХ века он оставался в стороне от театра. Между тем спектакль Аппиа, поставленный в 1903 году на частной парижской сцене для ограниченного благотворительным представлением числа зрителей, вызвал хоть и не слишком широкий, но международный резонанс. Отклики, пусть и неравные по величине и качеству, появились сразу в трех странах: во Франции (заметки светских репортеров в периодических изданиях), в Швейцарии (отзывы друзей Аппиа) и в Германии (серьезный анализ творческого метода режиссера был сделан Г. фон Кайзерлингом).
Временной промежуток с 1900 по 1904 год обозначает новый этап в творчестве Адольфа Аппиа. Его теоретической основой явились две небольшие, но очень показательные статьи – «Как реформировать нашу режиссуру» и «Новый художественный материал». Главная ценность этих статей в том, что в них выражена абсолютно новая идея: в театре закончилась эпоха ремесленников, не стремящихся к общей цели, и настала новая эра – эра режиссера, единственного созидателя спектакля, который именно потому становится художественным произведением, что был задуман одним художником.
В 1903 году настало время воплотить мечты Аппиа-сценографа в реальных сценических условиях, и «он выбрал для первой сценической постановки свою юношескую мечту»37. Он обратился к опере Ж.Бизе «Кармен» и к симфонической поэме Р.Шумана «Манфред». Реально была поставлена cцена, открывающая второй акт «Кармен» – знаменитая сцена в таверне Лиласа Пастья, с цыганскими песнями и плясками. «Вертеп, наполовину на открытом воздухе, полный подозрительных личностей, то есть контрабандистов»38 – так охарактеризовал Аппиа ту среду, которую ему предстояло воплотить в небольшом пространстве, высотой чуть меньше пяти метров и шириной около восьми. В этом пространстве предполагалось разместить, по крайней мере, двадцать одного актера. Шестнадцати персонажам на сценической площадке следовало с большой непринужденностью обмениваться репликами с пятью актерами на галереях. И посреди этого поюще-танцующего цыганского столпотворения занавес должен был стремительно упасть, произведя, по замыслу Аппиа, «головокружительный пьянящий эффект»39.
Основной идеей освещения (как для «Кармен», так и для «Манфреда») являлась аппиевская идея «контраста». В «Манфреде» световой контраст подчеркивал символичность происходящего на сцене действия, в «Кармен» он создавал для зрителя некую экзотическую среду. В сцене из «Кармен» не предполагалось даже рисовать на кулисах виноградные лозы, а на заднике – луну. То, что лунный свет пробивался сквозь листья винограда, изображалось с помощью сценического света, который отбрасывал на пол лунные блики и фрагменты теней. В постановке «Манфреда» противопоставлялись два образа – красно-черный образ преисподней и бело-золотой образ Астарты. Декорации Аппиа, по его собственному определению, были «очень красивы, а их линии – благородны и просты»40. Хотя декорации оставались традиционными, свет и техника освещения были «если не революционными, то, по крайней мере, технически совершенными»41. Один из друзей Аппиа, Адольф Феррьер, в статье «Сценическая реформа Адольфа Аппиа» писал: «Результат был столь успешным, что разуму оставалось лишь позволить увлечь себя; глаз и ухо стремились к единой цели; чувствовалось, что свет и музыка говорят на одном языке»42. Как друзья, так и критики признавали постановку Аппиа превосходной, событие – капитальным и революционным в искусстве сценографии, а произведенный представлением эффект – затрагивающим самые чувствительные струны художественной души.
В третьей главе – «Сотрудничество с Эмилем Жак-Далькрозом: 1906-1914» – анализируется самый плодотворный период практической театральной деятельности Аппиа, а также реконструируется спектакль «Орфей», поставленный Аппиа и Жак-Далькрозом в Хеллерау в 1913 году.
Знакомство в 1906 с создателем «ритмической гимнастики» и основателем знаменитого Института Ритма в Хеллерау Эмилем Жак-Далькрозом спровоцировало Аппиа на сценографический эксперимент, имевший принципиально новую основу – ритмику. В работе «Театральные опыты и личные изыскания»43 Аппиа прямо говорит о важности открытия ритмики для своего художественного развития – она выступает в роли освободительницы от оков, которые до ее появления сдерживали пространственную свободу художественного произведения. Принято считать встречу с Жак-Далькрозом судьбоносной и поворотной для Аппиа. Действительно, художник вновь обратился к театру и стал известен именно в это время. Но и для Жак-Далькроза эта встреча была не менее важна и значима. Его метод как возможность органического включения синтетических актерских выразительных средств в театральное представление, как способ выстраивания театрального зрелища, неотделим от того, что привнес в него Адольф Аппиа. Передовая преподавательская методика в союзе с новым подходом к сценографии породили настоящий театральный эксперимент, вершиной которого стало представление оперы К.- В. Глюка «Орфей и Эвридика», осуществленное на «отчетных» годовых праздниках в Хеллерау (в 1912 году – только второй акт, в 1913 году – вся опера). Постановка «Орфея» была задумана как воплощение музыкальной структуры оперы с помощью ритмопластики. Преображение сценического пространства должно было помочь телесным выразительным возможностям каждого актера раскрыться в групповом движении. И конструкция сцены, и музыкально-пластическое решение действия призваны были осуществить единый режиссерский замысел.
Аппиа расположил далькрозовских ритмисток «послойно», на лестницах, ставших его своеобразной «визитной карточкой» в истории театрального искусства. Самый значительный с точки зрения сценографии факт – лестница, созданная Аппиа для «Орфея», одна, без каких-либо дополнительных деталей декорационного оформления спектакля (за исключением освещения) являла собой весь замысел, несла в себе всю идею, организовывала сценическое пространство для всех перипетий действия. Она состояла из двух частей: одна часть, сформированная тремя пролетами, была расположена к публике «в профиль», при этом зрителям была видна лишь смена вертикальных и горизонтальных срезов; вторая спускалась «анфас» до уровня пола в зрительном зале. В 1912 году эта лестница, подобно скульптуре, отстояла от окружавших ее стен и не была отделена от зрительного зала даже занавесом. В 1913 году появились синие и белые завесы, структура лестницы несколько изменилась, «профильная» часть была визуально превращена в монолитный склон с помощью покрывавшей ее словно саваном темно-синей ткани.
Главной целью спектакля было устранение грани между залом и сценой, чего Аппиа добился тем, что в зале не был погашен свет, а освещение сцены было усилено дополнительными средствами. «Стены вокруг зрительного зала и потолок были обтянуты прозрачным белым материалом, за которым расположены были сотни электрических лампочек. Со стен и сверху лился рассеянный матовый свет, который мог быть по мере надобности усилен или смягчен. Возможно было и освещение отдельными полосами и освещение цветное»44. Отказавшись в декорационном оформлении от присущих живописи детализированности и конкретности, Аппиа создал сценическое пространство, готовое «принять в себя» Актера, ради которого оно, собственно, и создавалось. Любой сценический персонаж мог органично вписаться в эти декорации, ничто не противоречило появлению на аппиевских ступенях как единичной человеческой фигуры, так и ритмически организованной актерской массы.
Реконструируя спектакль, автор диссертационного исследования приходит к следующим выводам. Реформаторская опера Глюка в декорациях новатора Аппиа и в постановке экспериментатора Жак-Далькроза произвела переворот в существовавшем подходе к оперной режиссуре в целом. То, что спектакль проходил в расширенном светом сценическом пространстве, без придания ему «иллюзии реальности», без использования живописных декораций и пышных костюмов – означало, что Аппиа практически добился при постановке глюковской оперы осуществления своей вагнерианской концепции. В «Орфее» реализовалась и заявленная Аппиа в теоретических трудах иерархическая система ценностей, целиком подчинявшаяся Музыке: актер – пространство – свет – цвет. Цвет, низшая ступень иерархии, предельно устранялся, цветовая гамма костюмов и декораций ограничивалась белым, серым и синим. Свет объединял сцену и зал в единое пространство, ритмически организованное ступенями лестниц, но и характеризовал как персонажей, так и само действие. Единство пространства и времени осуществлялось через ритм пластических движений согласованных с музыкальной партитурой. Музыка царила надо всем. Созвучно Э.Г.Крэгу, который ставил оперы так, чтобы «освободить разом и сцену и воображение зрителя»45, Аппиа в «Орфее» достигал своей главной цели – «экстериоризации» музыки, выводя ее в созданное им трехмерное музыкально-ритмическое пространство с помощью ритмопластики и тем самым создавая настоящее «произведение живого искусства».
Не менее интересна работа Аппиа над пантомимой Жак-Далькроза «Нарцисс и Эхо» (1912), в которой, в отличие от «Орфея», не было актерской «массовки»: на сцене появлялись только десять персонажей – Нарцисс, Эхо, пять нимф и три наяды. Вместо заполнявшей все пространство и уходящей вверх лестницы появились колонны и двухуровневый подиум, на первый уровень которого вели три ступени, на второй – еще семь: Аппиа «играет» уже с другим пространством – плоским. «Странный и при этом все же естественный эффект» производила эта декорация – «никто не сомневался в присутствии на сцене воды, хотя все прекрасно видели у подножия скалы паркетный пол сцены»46. Спектакль был по памяти восстановлен Аппиа в 1920 году и видоизменен для нового помещения Института ритма в Женеве. Как и в «Орфее» 1913 года, в возобновленном «Нарциссе» появились занавесы. Пространство сцены стало менее глубоким, несколько трансформировалось и плоскостное решение пространства – вместо колонн слева появилась уходящая вверх и вглубь лестница, хотя и не слишком крутая и длинная. Радикально изменился замысел спектакля: вместо пантомимы Жак-Далькроз решил поставить музыкальную поэму (музыку написал он сам, стихи вышли из-под пера Жака Шеневьера). Но эстетические позиции Жак-Далькроза и Аппиа к этому времени перестали совпадать. Излишняя компромиссность Жак-Далькроза в тех вопросах искусства, которые ему самому казались принципиальными, огорчала Аппиа, считавшего, что в новых спектаклях и в общей эстетической направленности Женевского Института Ритма воцарилась мещанская пошлость. Жак-Далькроз, в свою очередь, был разочарован тем, что его друг «бежал» от реальности. Но несмотря на то, что Аппиа покинул Женеву, Жак-Далькроз продолжал переписываться с ним, прося развить в статьях тот или иной нужный ему для лекционной практики сюжет. Все труды Аппиа Жак-Далькроз ценил очень высоко и с неизменным уважением к автору читал их своим ученикам на занятиях.
Благодаря многолетнему сотрудничеству с Жак-Далькрозом Аппиа получил колоссальный театральный опыт и продвинулся вперед, к новым встречам и событиям в искусстве своего времени, которое он постоянно опережал. Теперь он смог посвятить себя «эффективной» постановке вагнеровских произведений, на которые он смотрел уже другими глазами, хотя ритмика и продолжала питать его вдохновение.
Четвертая глава – «Вагнерианский театр Аппиа: 1923-1925» – посвящена анализу спектаклей, осуществленных Аппиа в Милане (1923) и в Базеле (1924-1925), и детальной реконструкции аппиевской постановки вагнеровской музыкальной драмы «Тристан и Изольда».
Аппиа поставил «Тристана и Изольду» в Милане (на сцене прославленного театра Ла Скала) в 1923 году, когда ему было уже 60 лет. В то время Ла Скала, как и парижская Опера, была оплотом традиционализма, «зеркалом», в котором буржуазия отражалась во всем блеске своей славы и власти, и новаторство Адольфа Аппиа практически не нашло своих продолжателей в Италии. Постановку Аппиа освещала итальянская и швейцарская пресса. Журналисты-соотечественники, поддерживая Аппиа, выражали восторг и гордость, декларируя полный успех47. Но в итальянских газетах хулительных статей появилось значительно больше, нежели хвалебных. Критики не скупились на убийственно-ироничные высказывания, некоторые заговорили даже о «профанации» вагнеровских произведений.
Спектакль выдержал шесть представлений (декабрь 1923 – январь 1924). Сценография Аппиа, который ограничился несколькими чисто театральными элементами (занавесы, пратикабли и т.п.) и некоторыми элементами традиционного живописного декора, многим зрителям показалась вполне революционной, но большинство осталось недовольно. «Публика устроила овацию Маэстро48, но визуальное решение спектакля частично разочаровало ее»49. Отзывы в прессе раскрывают полное непонимание режиссерского замысла Аппиа итальянской публикой: «публика не отдает себе отчета в значении изысканной символики контрастов света и тени … и оказывается дезориентирована»50; «декорации не создают ни малейшей иллюзии, и даже обладающий самым богатым воображением зритель не увидит в них ни леса, ни сада»51; «книги и теории Аппиа … на практике не дают ожидаемых результатов»52. Смысл восклицаний критиков сводился к одному – Аппиа возомнил себя большим вагнерианцем, чем сам Вагнер!
Однако, как демонстрирует проведенная реконструкция спектакля, Аппиа удалось задумать, сохранить и осуществить постановку, полную трагического величия. При сравнении эскизов декораций и описания второго акта «Тристана», которое Аппиа сделал в 1896 году в приложении к «Музыке и постановке», с его эскизами и режиссерскими заметками 1923 года, прослеживаются художественные параллели в этих документах, и даже отмечается дословное совпадение некоторых формулировок. Дополнительным подтверждением того, что первоначальный замысел Аппиа практически не изменился, служит анализ эскиза и фотографии (1896 и 1923 годов соответственно) декорации к третьему действию. И там, и там сцена вертикально разделена с помощью света: примерно две трети сцены слева погружены во мрак; треть сцены справа занимает ярко освещенная арка с уходящими в нее ступенями. Аппиа рассматривал третий акт с точки зрения того, что происходит в душе Тристана: «Теперь на сцене только Тристан, охваченный любовным безумием. Его единственный свет – это Изольда. Поэтому, есть неопределенный край декорации – в нем находится Тристан; и есть другой край, который открывается на море; и мы, подобно Тристану, видим драму»53.
Аппиа и его помощникам приходилось «шаг за шагом завоевывать право сценической постановки спектакля считаться произведением искусства»54. В результате между теми, кто считал постановку Аппиа «профанацией оперного шедевра», и теми, кто видел в нем «провозвестника возрождения драматического искусства», развернулась «настоящая битва»55. Однако Аппиа высоко ценил результат своей борьбы за новую трактовку оперы. В статье «”Тристан и Изольда” в Ла Скала», напечатанной 12 января 1924 года в швейцарской газете «Литературная неделя», он писал, что, несмотря на «уступки живописному декору», ему удалось получить спектакль «беспрецедентный в истории оперного театра, в особенности театра вагнеровского»56.
После Милана Аппиа отправился в Базельский Штадттеатер. В марте 1924 года он начал подготовку проекта постановки «Кольца нибелунга» для Оскара Вельтерлина. 6 июля 1924 года в письме Вельтерлину Аппиа спрашивал, есть ли в театре «занавес, открывающийся посередине»: для него это было «необходимо, так как подобный занавес часто служит и декорацией, и выразительным средством (курсив мой. – А.У.)»57. Игра занавесом у Аппиа подобна игре на музыкальном инструменте и тесно связана с композиторскими идеями Вагнера. Передвижения занавеса сопутствуют изменению душевного и физического состояния персонажа, который в той или иной сцене становится главным. В соответствии со звучащей музыкой занавес – единственная подвижная «деталь» декорационного оформления спектакля – в союзе с освещением заставляет «пратикабельное» пространство оживать и меняться. В декорационном оформлении спектакля цельным и, в некотором роде, отдельным от всего остального спектакля символом явилась для Аппиа скала валькирий. «Вершина валькирий имеет самостоятельное значение, – пояснял он еще в «Постановке вагнеровской драмы». – Все окружающие ее декорации, во всех трех частях, предназначены для того, чтобы ее выделить»58. При рассмотрении декорации скалы к третьему акту “Валькирии” с той точки зрения, что у Аппиа уже имелся опыт эскизов к “Кольцу” 1891-1892 годов, а в его воспоминаниях, несомненно, были живы «ритмические пространства» Хеллерау, и при перечитывании описания скалы, данного Аппиа – «скалистый хребет горной вершины, пересекающий справа налево всю сцену, чуть впереди – внутренняя платформа, и первый план»59 – возникает ассоциация с декорацией «Орфея» и напрашивается вывод: по сути Аппиа изначально создавал лестницы, но в 1890-е годы это были лестницы «с налетом романтизма», как будто скрытые внутри пратикаблей на эскизах и рисунках. Лестница присутствовала как элемент представления и в «Кармен», и в «Манфреде». Но, начиная с хеллерауского «Орфея», лестница становится для Аппиа единственной направляющей целого спектакля: ступени ведут Орфея сначала в Ад, а затем – в Элизиум за Эвридикой; ступени ведут Тристана и Изольду к трагической развязке их любви. Это отразилось и в базельской «Валькирии», где собственно лестниц практически не было, они оставались скрытыми за кубами и параллелограммами пратикаблей, но сами пратикабли были расположены так, что их уровни напоминают ступени.
Аппиа успел поставить в Базеле две части вагнеровской тетралогии – «Золото Рейна» и «Валькирию», но ситуация вокруг театра сложилась так, что постановку «Кольца» пришлось прервать. Аппиа подробно описал все произошедшее в письме Жаку Копо от 25 марта 1925 года: «подготовка “Валькирии” заняла более двух месяцев; это дало время байройтским традиционалистам прийти в себя … они приставили нож к горлу директора театра … требуя немедленно остановить “Кольцо” в трактовке Аппиа … Благожелательная пресса возмущена, как и мои актеры … Враги … добились обратного эффекта … Они так громко топали ногами, что теперь каждый человек открыл глаза и призадумался, … меня приглашают во плоти на большой международный конгресс по музыковедению, в Лейпциг … Кроме того, мне сделали несколько серьезных театральных предложений»60.
Эти предложения связаны уже с совершенно другой эстетикой и с совершенно другой культурой. Адольфом Аппиа заинтересовались восприимчивые ко всяческим новациям американцы. Многие американские сценографы и режиссеры впоследствии назовут Аппиа своим Учителем, тем не менее, не вполне понимая его Учение. Сам Аппиа, вступая во вторую четверть ХХ века, двери которой так для него и не открылись (он скончался в 1928 году в возрасте 65 лет), обратился к шекспировским трагедиям – «Гамлету» и «Королю Лиру». Он написал небольшой сценарий к «Гамлету» и сделал эскизы в духе «ритмических пространств», демонстрирующие на практике основные положения «Произведения живого искусства». Эскиз к «Королю Лиру», по мнению А.Л.Бобылевой, «во многом загадочный и необъяснимый»61, при ближайшем рассмотрении оказывается аналогичен «движущемуся пространству» Крэга. Возможно, «Король Лир» ознаменовал бы новый этап творчества Аппиа, но история, как известно, не знает сослагательного наклонения.
В заключении подводятся итоги исследования. Исследование эволюции театральной теории и практики Адольфа Аппиа приводит к пониманию места этого выдающегося художника в истории театрального искусства и его роли в становлении современной сценографии и режиссерского театра. Систематизация творчества Аппиа доказывает, что разработанная им модель театра на рубеже ХIХ-ХХ веков явилась принципиально новаторской. Обратившись к критическим откликам современников Аппиа, руководствуясь его собственными режиссерско-постановочными указаниями, описывая сохранившиеся архивные фотографии спектаклей и сравнивая их с аппиевскими эскизами и рисунками разных периодов творчества, автор диссертации приходит к выводу о том, что сквозь тридцать лет мучительных исканий художник пронес не только общий замысел и генеральную линию своих будущих вагнеровских постановок, но и последовательность деталей, составивших реализованные им спектакли. Реконструкция и анализ спектаклей Аппиа разных этапов его творчества демонстрирует, что концепция воплощения вагнеровской музыкальной драмы, сперва носившая неоромантический характер, а позднее ставшая символистской, привела художника к практическому результату, который оказался адекватен теоретическому замыслу. «Кармен» и «Манфред» в салоне графини де Беарн были первой попыткой Аппиа продемонстрировать возможности светового решения сценического пространства не только с технической, но и с художественной точки зрения. Отказавшись от живописных декораций, создававших на сцене лишь иллюзию реальности, Аппиа посвятил себя поиску способов превращения сцены и зала в единую собственно театральную реальность, в которой зарождается спектакль как «произведение живого искусства». Достигнуть желаемого Аппиа удалось в Хеллерау, когда он подчинил спектакль Ритму во всех его проявлениях: музыкальном, пластическом, пространственном, световом. И лишь техническими особенностями театральных площадок миланского и базельского театров было обусловлено отчасти неполное воплощение замысла «вагнерианского театра» Аппиа.
В диссертации прослеживается сохранение основных постулатов теории Аппиа на всех этапах его художественной деятельности и формулируется его театральная концепция: в модели театра, созданной Аппиа, центральное место занимает музыка, которой подчинено поэтическое слово; музыкальная длительность определяет существование на сцене актера, диктует ему ритмически организованное движение (и/или пение), требует от него выразительности, такт за тактом соответствующей музыкальной партитуре; именно через присутствующего на сцене актера музыка «экстериоризируется», то есть выводится во внешнее пространство, становясь «видимой» зрителю; это пространство, архитектурно организованное с помощью ступеней, кубов, лестниц и колонн, «оживает» благодаря пластике актера и свету, игра которого основана на идее контраста и светотени; свет практически заменяет собой живопись, сценическая роль которой у Аппиа сведена к минимуму; цветовая гамма декорационного оформления в основном ограничивается серым, синим, черным и белым.
В контексте развития мировой режиссуры идеи «мечтателя-утописта» Адольфа Аппиа, зачастую казавшиеся эфемерными ему самому, стали конкретной реальностью, были востребованы и продолжают оставаться одними из руководящих моделей существующей театральной практики. В театре ХXI века не угасает интерес и не ослабевает внимание к произведениям Рихарда Вагнера. До сего времени функционирует основанный Вагнером театр в Байройте и сохраняется такое значительное для музыкального театра явление как Байройтский Фестиваль; в России (в частности – в Мариинском театре) произведения Вагнера по-прежнему занимают одно из центральных мест оперного репертуара. Кроме того, в современной методике преподавания в Женевском Институте Ритма Жак-Далькроза до сих пор в ряде упражнений используются аппиевские «ритмические пространства», правда, ставшие цветными. Наконец, в современном драматическом театре вновь возникает желание «уйти от фикции», и порой декорация ограничивается двумя-тремя предметами мебели и игрой света, создающего на сцене ощущение воздуха, места, времени года и дня. В связи с этим, новации, введенные Аппиа, особенно актуальны, так как целенаправленный взгляд на ярчайшие сценографические явления ХХ века и зарождающиеся сценические открытия века XXI открывает огромное воздействие «отца сценографии» на развитие мирового театра.
Сноски:
1 Базанов В.В. Сцена XX века. Л., 1990; Барбой Ю.М. К теории театра. СПб., 2008; Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. ХХ век. М., 1994.
2 Бачелис Т.И. Заметки о символизме. М., 1998; Шекспир и Крэг. М., 1983; Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. М., 2001; Божович В. И. Традиции и взаимодействие искусств: Франция: Конец ХIХ – начало ХХ века. М., 1987.
3 Гвоздев А.А. Германская наука о театре: (К методологии истории театра) // Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. Петроград, 1923. С. 5-24; Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Л.; М., 1939; Гительман Л.И. Идейно-творческие поиски французской режиссуры ХХ века. Л., 1988; Гозенпуд А.А. Рихард Вагнер и русская культура. Л., 1990.
4Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб., 2005; Французский символизм: Драматургия и театр. Пьесы. Статьи. Воспоминания. Письма / Сост., вступ. ст., коммент. В.Максимова. СПб., 2000; Мокульский С.С. История западноевропейского театра: В 2 т. М., Л., 1939. Т.2.; Молодцова М.М. Футуризм // Искусство режиссуры за рубежом: Первая половина ХХ века. Хрестоматия. СПб., 2004. С.118-121.
5 Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже ХIХ – ХХ веков. М., 1984; Титова Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995; Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971.
6 Chamberlain H.S. Le drame wagnérien. Paris, 1894.
7 Keyserling H. von. La première mise en application des idées d`Appia pour une réforme scénique // Appia A. Œuvres complètes. Lausanne, 1986. Т.II. Р.387-390.
8 Mercier J. Adolphe Appia: The Rebirth of Dramatic Art // Theatre Arts Monthly. N.Y., 1932. Аug.
9 Bablet D. Esthétique générale du décor de théâtrе de 1870 à 1914. Paris, 1965; Edward Gordon Craig. Paris, 1962 ; Josef Svoboda. Lausanne, 2004.
10 Appia A. Œuvres complètes. T.I. Lausanne, 1983; T.II. Lausanne, 1986 ; T.III. Lausanne, 1988; T.IV. Lausanne, 1992.
11 Volbach W.R. Adolphe Appia: prophet of the modern theatre. A profile. Middletown (Conn), 1968.
12 Bartlett R. Wagner and Russia. Cambridge, 1995.
13 Berghaus G. Theatre, performance and the historical avant-garde. N.Y., 2005; Milling J. Modern theories of performance: from Stanislavski to Boal. N.Y., 2001; Roubin J.-J. Introduction aux grandes théories du Théâtre. Paris, 1996.
14 Roose – Evans J. Experimental theatre from Stanislavski to Peter Brook. London, 2002.
15 Barba E. A dictionary of theatre anthropology: the secret art of the performer. London; N.Y., 1999.; Барба Э. Бумажное каноэ: Трактат о театральной антропологии. СПб., 2008.
16 Fifty Key theatre directors. London; N.Y., 2005.
17 Базанов В.В. Сцена ХХ века. Л., 1990; Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. М., 2001.
18 Порфирьева А.Л. Вагнер – Аппиа – Крэг – Мейерхольд // Оперная режиссура: История и современность. СПб., 2000. С. 23-51.
19 Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. М., 1966; Гринер В., Трофимова М. Ритмика Далькроза и свободный танец в России 20-х годов // Мнемозина. Документы и факты из истории русского театра ХХ века. М., 1996. С.124-148.
20 Бачелис Т.И. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга) // Западное искусство ХХ века. М., 1978. С.148 –212; Образцова А.Г. Адольф Аппиа и ХХ век // Аппиа А. Живое искусство / Сб.статей. М., 1993. С.3-8.
21 Бобылева А.Л. Творчество А.Аппиа (1862–1928) в контексте художественных исканий рубежа веков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 1994; Хозяин спектакля: Режиссерское искусство на рубеже XIX – XX веков. М., 2000.
22 Аппиа А. Музыка и постановка (Теоретические принципы. Сценическая иллюзия. Актер. Освещение); Ритмическая гимнастика и театр; Произведение живого искусства (Живая длительность; Живое пространство; Слияние) / Перевод А.Бобылевой // Аппиа А. Живое искусство. М., 1993. С.31-94; Аппиа А. Живая длительность. Живое пространство / Перевод А.Бобылевой // Московский наблюдатель. 1992. №1. С.60-64.
23Аппиа А. Постановка вагнеровской драмы (Заметки о постановке «Кольца нибелунга»); Произведение живого искусства (Гл. 6); Письмо Жаку Руше / Перевод А.Ульяновой // Французский символизм. Драматургия и театр. СПб., 2000. С.343-372; Аппиа А. Постановка вагнеровской драмы (Постановочная форма); Произведение живого искусства (Элементы) / Перевод А.Б.Ульяновой // Искусство режиссуры за рубежом.; Первая половина ХХ века. Хрестоматия. СПб., 2004. С.102-116.
24 Аппиа А. Из книги «Произведение живого искусства» / Перевод А.Ульяновой; перевод А.Бобылевой // Хрестоматия по истории зарубежного театра под ред. проф. Л.И.Гительмана. СПб., 2007. С.381-385.
25 Диссертант использует современную транслитерацию, сохраняя написание Байрейт или Байрёйт в цитатах.
26 Гозенпуд А.А. Рихард Вагнер и русская культура. Л., 1990. С.147.
27 Там же. С.155.
28 Chamberlain H.S. Le drame wagnérien. Р.17.
29 Appia A. La mise en scène du drame wagnérien // Appia A. Œuvres complètes. T.I. Р.263.
30 Мейерхольд В. Э. К постановке «Тристана и Изольды» на Мариинском театре 30 октября 1909 года // Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. В 2 ч. М., 1968. Ч.1. С.146
31 Аппиа А. Постановка вагнеровской драмы // Французский символизм: Драматургия и театр. С.356-357.
32 Там же. С.360.
33 Там же. С.353.
34 Appia A. Die Musik und die Inszenierung // Appia A. Œuvres complètes. Lausanne, 1986. T.II. Р.56-57.
35 Ibidem. Р.73.
36 Аппиа А. Постановка вагнеровской драмы // Французский символизм: Драматургия и театр. С.362.
37 Appia A. Œuvres complètes. T.II Р.368. [ Комментарий М.-Л. Бабле-Ан].
38Appia A. Lettre à la duchesse E. Cantacuzène // Appia A. Œuvres complètes. T.II. Р.368.
39 Ibidem.
40 Appia A. Lettre à la duchesse E. Cantacuzène // Appia A. Œuvres complètes. T.II. Р.366.
41 Appia A. Œuvres complètes. T.II. Р.370. [ Комментарий М.-Л. Бабле-Ан]
42 Ferrière A. La réforme scénique d`Adolphe Appia // La Suisse. Genève. 1903. 29 mai. Cit. in: Appia A. Œuvres complètes. T.II. Р.390.
43 Appia A. Expériences de théâtre et recherches personnelles // Appia A. Œuvres complètes. Lausanne, 1992. T.IV. Р.36-56.
44 Гринер В. Воспоминания о Жак-Далькрозе // Советский балет. 1991. № 5. С.44.
45 Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. С.125.
46Appia A. Œuvres complètes. Lausanne, 1988. T.III. P.410. [Комментарий А.Аппиа к рисункам, помещенным в работу «Произведение живого искусства»].
47 Gazette de Lausanne. 1924. 20 janv. // Appia A. Œuvres complètes. Т.4. Р.258.
48 Имеется в виду дирижер Артуро Тосканини.
49 Appia A. Œuvres complètes. T.IV. Р.229. [Примечание М.-Л. Бабле-Ан к постановке «Тристана и Изольды»].
50 Appia A. Œuvres complètes. T.IV. Р.254. [Отрывки из статей в газете Corriere della sera от 21 дек. 1923 г.].
51 A.Lualdi in Il Secolo 21 dicembre 1923 // Appia A. Œuvres complètes. T.IV. Р.256.
52 Appia A. Œuvres complètes. T.IV. Р.254. [Отрывки из статей в газете Corriere della sera от 21 дек. 1923 г.].
53 Appia A. Œuvres complètes.T.IV. Р.253. [Из интервью Аппиа в газете Il Secolo от 27 или 28 ноября 1923 г.].
54 Appia A.”Tristano e Isotta” à la Scala // Appia A. Œuvres complètes. T.IV. Р.248.
55 Ibidem.
56 Ibidem. Р.247.
57 Appia A. Œuvres completes. T.IV. Р.261. [Комментарий М.Бабле-Ан к постановке спектакля в Базеле].
58 Аппиа А. Постановка вагнеровской драмы // Французский символизм. Драматургия и театр. С.351.
59 Там же. С.355.
60 Appia A. Lettre à J.Copeau // Appia A. Œuvres cоmplètes. T.IV, P.276.
61 Бобылева А.Л. Театральная утопия А.Аппиа // Аппиа А. Живое искусство. С.30.
Публикации автора по теме диссертации
в ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ:
1. Ульянова А.Б. «Орфей» в Хеллерау // Театральная жизнь. 2008. №3.
С.85-87. 0,25 а.л.
2. Ульянова А.Б. Эволюция театральной практики Адольфа Аппиа: 1903-1923 // Вопросы театра. Pro scaenium. 2009. №1-2. 0,75 а.л. (в печати)
Публикации в других изданиях:
1. Ульянова А.Б. Теоретические статьи и практические опыты Адольфа Аппиа: 1900-1904 // Театрон. Научный альманах СПбГАТИ. 2008. №1. С.25-31. 0,5 а.л.
2. Ульянова А.Б. Ледяные просторы Северного полюса: Адольф Аппиа и Козима Вагнер // Скрипичный ключ. 2008. №3. С.29-31. 0,25 а.л.
3. Ульянова А.Б. Актер в театральной концепции Адольфа Аппиа // Феномен актера: профессия, философия, эстетика / Материалы третьей научной конференции аспирантов 13 мая 2008 года. СПб., 2008. С.51-57. 0,25 а.л.